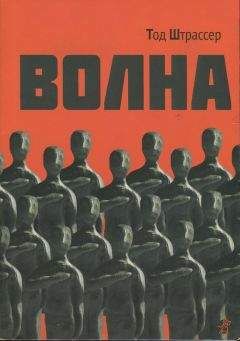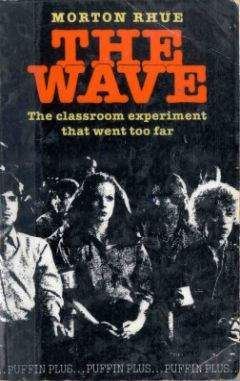Леонид Бородин - Ушёл отряд
Когда все выстроились — партизанщина! Кто в чем, и к такому виду отряда теперь привыкать. В ватнике, а на голове пилотка — нелепо. Ушанки, что у деревенских навыпрашивали, ношеные-переношеные, некоторые с оторванным ухом… Только сапоги-«кирзухи»… Если на них смотреть, а что выше, не видеть — вроде бы и рота перед тобой. При форме, кроме Кондрашова, остались только Никитин, Карпенко и Зотов. Старшина и их уговаривал на «партизанщину», убеждал, что в гражданском сподручнее, — не уговорил.
Этой ночью охранение не выставлялось совсем — немцы ждут их у западных зимников, сами не сунутся. Кондрашов подумал, что, может, кой-кто из деревенских хоронится уже в ближайшей чащобе, чтобы раньше других попасть в опустевший лагерь — натаскали партизаны из деревни всякого барахла, в любом хозяйстве нелишнего. В командирских блиндажах и землянках, к примеру, в лампах керосин, а деревня уже давно живет при лучине. Дивная, искусная это вещь — лучина! И горит ровнехонько, и коптит в меру. Раньше только в сказках читал да в песнях… «Догорай, гори, моя лучина…»
Построились привычно уже, по четверо. Обходя строй с политруком, почувствовал Кондрашов странную тревогу, словно в построении было что-то неладно. Когда возвращался к голове колонны, понял, не с построением неладно, а с ним самим, самозваным командиром отряда. Так получилось, что в первых рядах все те, кто зимовал с ним в Тищевке, а заболотские в задних рядах. Тищевских и про тищевских так или иначе знал все: кто откуда родом, как к отряду прибился. А вот заболотские… Дай Бог, чтоб хоть по фамилиям вспомнить каждого. Ведь одно дело — зиму зимовать, другое — в бой идти, толком людей не зная. И не в том смысле, что без доверия, о доверии речи нет, кто хотел бы, нашел бы способ утечь… Те, кто дивизиями да армиями командует, у них должно быть совсем другое зрение на так называемую «живую силу», чисто количественное, и маневры они не с людьми осуществляют, а с боевыми подразделениями, а всякие личные чувства, они как бы без надобности, когда в голове одна стратегия.
А когда, как здесь, отрядик недовооруженный, он что дворовая команда с другой дворовой отношения выяснять идет, и про каждого вожаку все знать положено. То из опыта личной юности известно, он, Кондрашов, лет с тринадцати верховодил над шпаной дворовой — драчун из драчунов был. Ростом высок, руки длинные, мускулы что надо. На верховодство не напрашивался — выбирали. Отец не раз с притворным прищуром мать пытал: «В кого это сынок наш дылда такая, по родове что-то не припомню». «Ну, еще чего умного скажешь?» — ворчала мать. «Сказать не скажу, а думать не запретишь!» — «А если сковородкой по башке, думалка не усохнет?» — «Если сковородка, то конечно… Только ты скажи, сынок, кто это до твоего глаза дотянуться сумел, чтоб такой фингал пропечатать?»
Когда в комсомол вступил, остепенился.
В армии опять же в любом строю первый. И после училища… Подойдет какой-нибудь «крупношпальный», хлопнет по плечу: «Орел!» На тебе и первое продвижение. А кто еще вчера рядом в строю стоял, про тех и вспомнить некогда. Вот так, в неправильности прежней армейской службы, надо понимать, корень неправильности нынешнего командирства. Танкист Карпенко правильно сказал — взводный, и не выше…
И еще решительней определился: при первом же случае передать командирство капитану Никитину. Этот в душах солдатских принципиально копаться не станет, он их души за скобки вынесет, а в скобках оставит один только долг службы военной, и, возможно, такой отбор самый честный, когда лишнего и знать не надо, а лишь самое главное, а главным этим надо уметь правильно распорядиться. А души солдатские — то для политруков и самого младшего командного состава — как раз для комвзводов, от всяких стратегических мыслей свободных, но обязанных к мыслям о каждом солдате в отдельности, из чего тоже какое-то, войне необходимое, знание образуется.
Капитан меж тем, до того шагавший вдоль строя вместе с Кондрашовым, вдруг головой замотал сердито, к строю подошел, вытащил из второго ряда бойца, между прочим, именно из тех, кого Кондрашов знал только по фамилии, и давай отчитывать за то, что вещмешок у него на заднице болтается…
И в это время кто-то крикнул: «Нет, ты глянь-ка что!» По всему строю гомон. Кондрашов обернулся. К строю подходил пьяный Пахомов. Что это именно Пахомов, подручный старосты Корнеева, как знали все, а Кондрашов знал и другое, что это именно он, еще надо было приглядеться, потому что выбрит и от выбритости непривычно узколиц, над верхней губой тоненькая полоска черных усов, кудри пострижены как попало, но заглажены-зализаны на пробор, на роже типично барско-белогвардейское выражение, но это еще что! Шел Пахомов в шинели нараспашку, руки в карманах шинели, по причине изрядной хмельности, рук из карманов не вынимая, от сосен и сосенок отталкивался локтями и, лишь оказавшись шагах в пятнадцати от строя, волевым напрягом взял под контроль «двигалки» и что ими управляет, пять почти строевых шагов исполнил, как нарисовал.
Мгновенно строй партизанский дугой выгнулся — истинно диво! Во-первых, шинель на Пахомове не наша, не советская, а белогвардейская офицерская, хотя и без погон, а во-вторых и третьих — под распахнутой шинелью ничего, то есть белье нательное, чистенькое, блестит под солнышком, рубаха навыпуск, кальсоны у щиколоток вязочками перетянуты. Но полный «бзик» не в том. Босой пришел Пахомов! «Во пьянь!» — бормотнул кто-то рядом с Кондрашовым. И то! И земля холодна, а в деревне вообще местами ледок да грязь что лед. Ступни же у Пахомова белы, как у покойника, — в лес вошел, оттер грязь? Так, что ли?
Остановился Пахомов напротив капитана Никитина, покачивался, но потом, ноги босые расставил — прямехонек. У капитана улыбочка недобрая на лице, губы стончились, будто в судороге.
— Надо же! Мы тебя вчера обыскались, а нынче, гляжу, сам пришел. Хорошо…
Все так же расставив ноги, рук из шинели не вынув, заговорил Пахомов громко и голосом незнакомым:
— Ты, гнида комиссарская, ты за что Валентиныча убил? Скажешь, за что, или не будешь говорить?
Улыбка на лице капитана зловещая, рука медленно опустилась на кобуру, расстегивая…
— Сам пришел. Это хорошо! — цедил капитан сквозь зубы, вынимая револьвер.
— В чем дело? — решительно потребовал Кондрашов. — Кто кого убил? Товарищ капитан!.. Зотов, я спрашиваю…
Но Зотов зрачками-пятаками пялился то на капитана, то на Пахомова и рот раскрыл… Кондрашова словно бы и не слышал. Его вообще никто не слышал, будто выключили…
Пахомов пьяно захохотал в лицо капитану.
— Нет, вы послушайте эту гниду! Он думает, что хорошо, что я пришел! А вот не мог я не прийти, рожи твоей коммунячьей напоследок не увидев!
— Ну и как? Увидел? Только больше ты уже ничего не увидишь. Плохо, что пьяный пришел. По трезвости духу не хватило бы, да?
Отщелкнул барабан револьвера, прокрутил привычно, вставил в патронник, боек взвел.
— Товарищ капитан!.. — всей силой неслабого голоса крикнул Кондрашов.
Никто даже не шевельнулся, только строй почти кругом сомкнулся вокруг двоих… А Кондрашова с Зотовым оттеснили.
Капитан уже поднял револьвер на уровень груди Пахомова, но тот вдруг вскинулся полами шинели, а правого кармана нет, там рука, а в руке маузер, и так вот, от бедра… Выстрел, другой, третий!
От каждого выстрела капитан вскидывал руки, запрокидывался спиной, но не падал и лишь после третьего — выронил револьвер и будто осел на руки сзади стоящего бойца, которого только что отчитывал. На лице капитана удивление… Солдат не удержал, упал на колени, капитана бережно рядом положив.
На сколько секунд, минут над Шишковским сосняком смертоносная тишина зависла, или было то одно мгновение, временем неисчислимое? Но вот автоматная очередь врубилась в тишину и в белое исподнее белье Пахомова. С мгновенно окрашенной грудью он рухнул на землю, нелепо подвернув одну ногу. От каждого попадания пули в уже лежащее тело нога дергалась, а люди думали, что еще живой, и палили… Сколько? Двое, трое, все?
— Прекратить огонь! — во всю Богом данную ему мощь заорал Кондрашов.
На этот раз его услышали. Автоматы заткнулись, пахомовская нога замерла… И опять тишина мгновением. В то, что случилось, не могло вериться. Неверие было равно мгновению. Вдруг все разом засуетились, проталкиваясь к мертвому капитану Никитину. Упала, накрыв его собой, Зинаида. Ощупывала, ухом припадала к окровавленной шинели, откачнулась, села рядом на землю с перемазанным кровью лицом и глазами зрящими в никуда.
Кондрашов грубо схватил за плечо Зотова, рванул к себе, потом за грудки и лицом к лицу, так что почти завис политрук в воздухе, носками сапог едва касаясь земли.
— Докладывай! — крикнул Кондрашов и никаких других слов не нашел больше.
— Вчера… — застонал, всхлипывая, Зотов, — не хотели вас расстраивать… Думали, на походе расскажем…