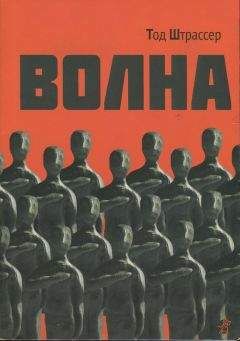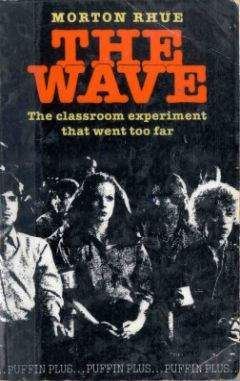Леонид Бородин - Ушёл отряд
— Не наш это, — отвечал старшина Зубов. — Проверено и по спискам, и по рожам. Только, может, этот хмырь не из Тищевки, а из Заболотки.
— Нюхом чую, что из Тищевки! Ну чую, и все! А Заболотку, если надо, тоже прошерстим.
Молчавший до сих пор политрук Зотов, еще от стыда не остывший за позорное бегство с болот, голос подал:
— Предлагаю… теперь-то уж риска нет… В общем, предлагаю хотя бы намекнуть отряду, что другой план есть, что не лезем в петлю. Сейчас ведь уже все знают о немецкой засаде. Дух поднять…
— Думаю, можно, — согласился Кондрашов. — И вот что еще: мы же на оружие обозников рассчитывали. Нет смысла безоружных набирать, а что на станции добудем, того самим не в избыток. Ну, десяток добровольцев, если уж сильно проситься будут. Короче, мобилизация отменяется. Пусть живут и до партизанства сами дозревают. А?
Капитан Никитин покривился, головой покачал:
— Политически неверное решение. Что молчишь, политрук? Хрен с тобой, молчи. Но поскольку неизвестно, как все обернется потом, имею в виду, когда станцию возьмем, оно, может, и правильно. Нет смысла обозом обрастать. Согласен. Только мужик, он и есть мужик, пока жареный петух в одно место не клюнет, ему лишь бы было чем брюхо набить. Им нынешний обоз важней всей политики. Немцы муку и махру привезти обещали. Без всяких трудодней. Баш на баш. А надо бы как, не будь мы в глубокой этой самой… Оставить тайно от деревни пяток бойцов, чтоб переждали в лесу, когда вся эта история закончится, а потом постреляли обоз прямо у деревни. Не утерпят мужики, растащут дары немецкие. И когда после им всыплют по первое число, вот тогда они и о Родине вспомнят…
— Извините, товарищ капитан, — не выдержал Кондрашов, — но мне противно такое слушать! По-вашему получается, что мы как два разных народа. Один у нас народ…
— Один, один, успокойтесь, командир. Народ у нас один, только из разных классов он состоит, а, политрук? Или я не прав? И марксизм тоже? Тебя в этой самой Шуе учили понимать психологию классов?
Зотов головой закрутил, то на капитана, то на Кондрашова поглядывая.
— Меня учили… Только вы говорите как-то… не знаю… С перегибом, вот как!
Капитан хохотнул довольно, через стол дотянулся до Зотова, дружески за плечи тряханул:
— Вот тут ты прав, политрук! На все сто прав! Есть за мной такой грех насчет перегибов. Только в нынешней войне, и в том я упертый, нынче лучше перегнуть, чем недогнуть. Сколько б народу ни полегло, лишь бы страна осталась. А народу та же деревня быстро народит, сколь для жизни нужно. В этом деле она первей всех других классов. Я ж тебе рассказывал, когда в двадцать первом Кронштадт поднялся на нас, Троцкий со страху в свою кожань обмочился. Так вот мы тогда эту эсэровскую матросскую шантрапу с корнем! Один агитатор работал, по имени «максим». Ты красный лед видел? То-то! А хочешь знать, какого классу восставшая матросня была? Да все того же, деревенского, последний набор.
Что-то Зотов хотел возразить, ладонь над столом вознес, но капитан сказал:
— Амба! Спать хочу. Командуй, командир, кто чем заниматься будет, и я отваливаю.
Обязанности по подготовке к походу расписали быстро. Первым поднялся и ушел танкист Карпухин — кажется, и слова не сказавший за все время, пока обсуждали, спорили… Зотов, хмуря свои мальчишечьи брови, вышел вслед за старшиной. А капитана Кондрашов все же придержал на минуту.
— Что сказать хочу… Слушаю вас, и вроде бы уверенности больше в том, что окончательно все равно победим. А с другой стороны…
Капитан перебил раздраженно:
— Ну вот, и у вас «с другой стороны» появилось. Политруку простительно, сопляк еще. Поймите, наконец, что таких войн, как эта, в истории еще не было. Нынче не страна со страной воюет. Если бы дело только в стране… Ну победили бы немцы. И что? Надо капитулировать на десятый день, народ сохранить, чтоб потом, когда немец бдительность потеряет, подняться и — под зад. Это если б страна наша была обычная, как все. Как в первую мировую. Тогда треть территории отдали — и ничего, пришло время, и вернули с лихвой. А сейчас, командир, под ударом идея мирового коммунизма. Победит Гитлер — и все! Хана! Фактически остановка истории. Это как если бы человечество технически остановилось на телеге о четырех колесах. Не за страну воюем, то есть не только. За исторический прогресс всего человечества. Раньше такое понятие было — цена победы. Теперь другое, теперь просто победа любой ценой, значит, без цены вовсе. Так что всякие такие мысли «с одной стороны, с другой»… Такие мысли в мозгах, как вшей, давúте, иначе воевать не сможете. А как командир, заставить побеждать не сумеете. Э-э, да чего там! По ходу дела сами все просечете. Так пойду я, добро?
— Конечно, конечно!
Кондрашов крепко пожал руку капитану, дверь блиндажа раскрыл ему, сам еще долго стоял у раскрытой двери, поеживаясь от холода, который без всякого ветра наплывал на лес сам по себе и не со стороны болот, как чаще всего, но со стороны Тищевки.
4
Последний день пребывания отряда в Шишковском лесу прошел в хлопотах; чем ближе к вечеру, тем их больше — хлопот. Дошло до того, что Кондрашов вместе со старшиной Зубовым у каждого отрядника проверяли наличие запасных портянок. И хотя самому отряду вовсе не было объявлено про последний день, а про маршрут выхода из болот — тем более, все знали, что завтра выход, все догадывались — не через западный зимник, о том намек отряду был, всяк на Кондрашова смотрел, как на отца-спасителя, потому что если через западный, то всем хана ни за грош.
Никитин с Карпенко сперва собрали все имеющееся оружие в кучу, все, вплоть до последнего патрона. А затем раздали по своему усмотрению — кому что нужнее, гранаты, к примеру, получил только тот, кто доказал дальность и точность метания. Как ни капризничал махновец Ковальчук, но и его пулемет был обследован капитаном Никитиным придирчиво, а капитанское «добро» Ковальчук принял как оскорбление, такую рожу скорчив, что Кондрашов, при том присутствовавший, хохотнул, по плечу пулеметчика хлопнул, сказал со значением: «А ты как думал? Доверяй, но проверяй — первое правило!» Ковальчук, и ему презрение отвесив, удалился, зло покрикивая на свой «второй номер», на мальчишку, тащившего пулемет.
Из одиннадцати добровольцев, парней с обеих болотных деревень, оставили восемь с дробовиками. Какое оружие — дробовик? Зато патронов парнишки заготовили — полны патронташи и карманы. На зависть тем, у кого хоть и «шмайссер», а в рожке едва десяток. Четырнадцать чисто безоружных требовали, чтоб им деревенские хоть «берданы» передали, но парни категорически уперлись, и Кондрашов уступил добровольцам, имея в виду придерживать их в резерве во время боя, любимчику своему Лобову приказал пасти их аккуратно, чтоб не совались куда не следует. Лобов, конечно, обиделся такому «командирству», обиды не скрыл и в глаза Кондрашову не смотрел, приказ получая. Те, что без оружия, были опять же строжайше «прикомандированы» к Зинаиде. Бой без раненых — бывает ли такое? В числе пусторуких оказался и капитан Сумаков, свое разоружение принял спокойно, а порывшись в рюкзаке, приподнес Кондрашову по ситуации воистину царский подарок — бинокль-«восьмикратку».
— У вас был, и вы молчали?
— В лесу без нужды… — промямлил Сумаков, — как-то и забыл о нем.
Дивны фокусы природы. Если человек к военному делу никак не пригоден, то, как форму напялит, и лицом, и фигурой, ну, как бы только намек на мужика. Такого хоть месяц гоняй по строевой, все равно будет и ноги путать, и задом подмахивать, а на «гражданке» поди от прочих и не отличишь. Нормальный. Пытался вспомнить, когда, с кем Сумаков примкнул к отряду. Не вспомнил. Когда б не тот же бинокль, сказал бы, что лишний человек. Только, знать, лишних на войне не бывает.
Меж тем уже третий день подряд над Заболотьем солнце по всем правилам сотворяло весну. Снежные лепехи в ямках и буерачных местах вытопило и сами места высушило. Все тропины, давние и новые натоптанные, уже не сохраняли следы солдатских сапог, прошлогодние травы распрямлялись, высвобождая промеж себя место для свежей поросли. С бугра Шишковского леса весна медленно сползала-скатывалась к деревне Тищевке, откуда тоже порой потягивало с попутным ветерком весенним деревенским запахом — запахом навоза. Иной отрядник вдруг остановится, пошевелит ноздрями в сторону деревни и улыбнется чуть-чуть — то ли не диво, до деревни ведь больше часа ходу. Иногда померещится, будто какой-то случайно не зарезанный петух прокричит. Но то обманка. Не долететь петушиному голосу до Шишковского бугра.
А если прищуриться на солнце, а после закрыть глаза и прогревать через рожу нутро и душу саму, то никуда уходить не хочется. Но надо. И надо больше, чем не хочется. Куда как больше. Факт, что посредь болот войны не слышно, то не просто факт, то заман в подлянку — а может, ее и вообще нет, войны? Или она не для всех?