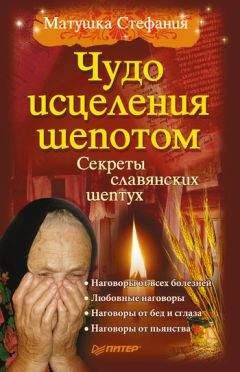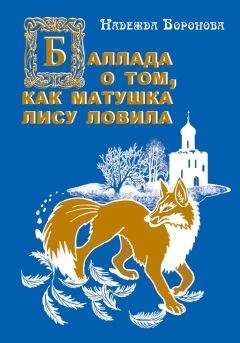Василий Аксенов - Бумажный пейзаж
Три спектакля пришлось отменить, «Иркутскую историю», «Веселую вдову», ну и, конечно, бессмертную «Сильву», вот примчалась на всех парусах, друг мой, ха-ха!
Твое рождение, друг мой, ни для кого в городе не было тайной. Отчетливо помню, мой дорогой, тот вечер, когда Иван Велосипедов приехал из казарм на велосипеде. Не смейся, ты же знаешь, что наша фамилия не имеет никакого отношения к этим велосипедикам, я всем об этом говорю, но мне не верят. Уже полыхала война. Я пела ему: «Я на подвиг тебя провожала. Над страною гремела гроза, Я тебя провожала. Но слезы сдержала, И были сухими глаза»! Именно под звуки этой песни ты и был, мой друг, ну, как говорится, зачат. Ну, а что касается Клауса Рихтера, то к моменту немецко-фашистской оккупации я была уже, ха-ха-ха, в интересном положении, да и вообще, кроме эстетических, он не был готов ни к каким отношениям, потому что страстно ненавидел войну. Вот и сейчас он работает парткомом на судоверфи в Варнемюнде, недавно был у нас во главе делегации борцов за мир ГДР, вообрази себе нашу встречу, ха-ха-ха!
Я немедленно, немедленно, немедленно отправляюсь куда следует, не допущу, чтобы моего мальчика, ой, ха-ха-ха, у тебя, мой друг, маленькая плешиночка, не допущу, чтобы… немедленно к самому Демичеву… меня ценят… сейчас рассматривается вопрос о присвоении звания… Заслуженной… Адыгейской автономной!.. Видишь, я прямо сразу сорвалась, перенесла три спектакля и в самолет, а там, воображаешь, один моряк, ха-ха-ха, капитан-лейтенант… девушка, говорит, простите, вы путешествуете в одиночестве?…
Велосипедов смотрел на ее плоские голубые глаза, на маленький ротик, округляющийся при похохатывании, и, как писали раньше в советских романах о загранице, «ему хотелось плакать». Да она меня любит, думал он, ведь не было же у Сильвы никогда тридцатилетнего сына с проплешиной, а стоило выгнать его с работы, подвергнуть гонениям, и вот — сын появился! Ах, маменька, маменька, почему бы вам. наконец, не постареть?
А она между тем как раз молодела на глазах, благодаря румянцу благородного гнева. Вот телеграмма из Нарьян-Мара. Иван Диванович Велосипедов в ответ на мой запрос радирует: «Настоящим подтверждаю отцовство своему законному сыну Велосипедову Игорю Ивановичу».
Подпись Велосипедова-старшего заверена бригадиром кассы Амангельды Эдишербековой.
— У меня, между нами, знакомый есть в Политбюро, — сказала мама и посмотрела на сына смущенно снизу вверх. — Такой Дима Полянский. Он был у нас когда-то первым секретарем крайкома, ведь не может же он, ха-ха-ха, меня забыть.
— Мама, дорогая, — возразил Игорь Велосипедов. — Вы, если собираетесь предпринять чрезвычайные меры, имейте, пожалуйста, в виду, что я глубоко разочарован в существующем порядке вещей. Печально, но факт…
— Ах, ты просто влюблен, друг мой! — всплеснула ладошками звезда Кубани. — Признайся! Признайся!
— Да-да, — признался со вздохом Велосипедов. — Я просто влюблен.
— Надеюсь, до внуков еще не дошло?! — воскликнула Сильва с некоторой как бы легкомысленной тревогой и в то же время с игривостью, вообразив розовощекого пузанчика, которого все принимают за ее сына и никто не догадывается, что это ее внук, а если скажешь, просто отказываются верить — дивная сцена, дивная!
Тут она посмотрела на часики, ахнула, подмазала губки и побежала в Политбюро.
Вернулась она серьезная, значительная, почти суровая. Увы, друг мой, не очень-то хорошие новости. ТАМ к тебе относятся слишком серьезно. И она рассказала о встрече с Полянским.
Он стоял у окна в своем огромном кабинете и смотрел на ветви сада, когда она вошла. Он протянул ей навстречу руки и грустно улыбнулся. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? Помнишь ли ты наши мечты? Ах, это был только сон, но какой чудный сон…
— Увы, мой друг, Митя — не царь, и единственное, что он посоветовал тебе, жить тихо и… — тут мама извлекла из сумочки кружевной платочек, на котором второпях тушью Для ресниц записала сказанное Митей, — и не способствовать… вот так… расширению… вот именно… и без того серьезной информации. Пока, сказал Митя почему-то шепотом и добавил почти неслышно: нужно ждать, ждать, ждать…
Между тем пришла осень, и разразилась война на Ближнем Востоке. Израиль использовал свой религиозный праздник Йом Кипур для затягивания арабских народов в ловушку новой агрессии.
В разгар боев на Синае Яков Израилевич Протуберанц стоял в очереди к телефону-автомату возле метро «Динамо». Он был четвертым, а за ним уже скопился целый хвост.
В будке упражнялся брюнет в светло-сером костюме, то поворачивался к очереди длинной спиной с выпирающими лопатками и драматически в такой позиции изгибался, то вдруг давал лицезреть лошадиное лицо, закатывающиеся в пафосе беседы мутные глаза, клавиатуру желтых зубов, длинные и волосатые пальцы с насаженными на них перстнями. Просто настоящий «театр одного актера».
Якова Израилевича эта ситуация нимало не раздражала, потому что он даром времени не терял, размышлял свои возражения австралийскому мыслителю W, объясняющему историю роевыми инстинктами человеческих масс, и даже делал кое-какие пометки для памяти, фигурально говоря «на манжетах», а фактически на полях французского журнала «Альтернатива», где недавно была напечатана его статья.
А вот остальная публика, однако, начала уже основательно ворчать в адрес неопределенного брюнета, который разговорился, как будто он дома. Надо монеткой постучать этому нерусскому товарищу, может, опомнится, пока не поздно.
Товарищ, стоящий первым в очереди, сочтя претензии сзади стоящих товарищей вполне обоснованными, ребром двухкопеечной монеты постучал в стекло будки тому товарищу, который злоупотреблял общественным терпением, то есть брюнету. Тогда вышеуказанный приоткрыл дверь будки и плюнул в лицо тому, который стучал. Затем, закрыв дверь, продолжал свой театральный диалог. Публика была потрясена и сразу начала безмолвствовать. Кто его знает, кто такой, если плюется. Вот вам опровержение вашей теории, дорогой W, подумал Протуберанц. Вот налицо резко индивидуалистический акт отдельной недетерминированной личности, который может иметь основательные общественные последствия.
— Товарищи! — после довольно продолжительного молчания воззвал оплеванный. — Что же, так всю жизнь и будем терпеть?!
Публика хмуро напряглась. Субъект в будке, картинно изогнувшись, демонстрировал тонкую талию и вызывающе выпяченное под тонким габардином свое хозяйство.
Если это еврей, подумал Протуберанц, то, боюсь, мы сейчас получим в некотором смысле общественный антисемитский акт. Внешне это подтвердит теорию уважаемого коллеги W, однако ведь в основе-то…
Субъект повесил трубку, открыл дверь и крикнул с порога телефонной будки:
— Русские свиньи!
После чего начал валиться на бок, производя еще при этом спазматические движения кадыком.
Оплеванный товарищ поддержал падающего.
— Не будем уподобляться линчевателям из Алабамы, — сказал он публике, которая и не собиралась уподобляться никаким линчевателям, а пребывала лишь в некотором недоумении — что же товарищ имел в виду, выкрикивая подобную нелепость? — Сейчас мы его просто-напросто передадим блюстителям порядка, — сказал оплеванный и обратился за помощью к ближайшему мужчине, то есть к Я. И. Протуберанцу: — Надеюсь, поможете, товарищ?
Итак, вдвоем с оплеванным товарищем философ Протуберанц транспортировал похрапывающего и постанывающего товарища брюнета в ближайшее отделение милиции, что под трибунами небезызвестного столичного стадиона. Там в этот час было тихо. Дежурный лейтенант читал книгу. В углу подремывал единственный задержанный, красноносый и кудреватый, похожий на Емельяна Пугачева, хоть и кривой, как фельдмаршал Суворов, бич.
— Ну, что вам, ребята? — спросил лейтенант таким тоном, будто Протуберанц и оплеванный товарищ здесь частые гости.
Выслушав рассказ об оскорблении путем испускания слюны и выкрикивания лозунгов, чуждых принципам пролетарского интернационализма, офицер вздохнул и вытащил бумагу для составления протокола. Тут выяснились, конечно, личные данные всех участников драмы, двух сознательных граждан, доставивших в отделение дерзкого брюнета, а также и сам дерзкий брюнет, несмотря на сопротивление и попытки станцевать что-то восточное, был опознан по дипломатическому паспорту как господин или товарищ Ясир Абу Гадаф, атташе по культурным вопросам Республики Сомали. Фамилия же оплеванного товарища оказалась Морозко, а имя-отчество Борис Рувимович.
— Клянусь, думал, что азербайджанца тащим, — шепнул Борис Рувимович Якову Израилевичу. — Теперь, старик, возникает просто вопиющая история: наши как раз сегодня Суэцкий канал форсировали, а мы с тобой араба — в милицию! Вот схлопотали мы с тобой приключения на собственную верзоху!