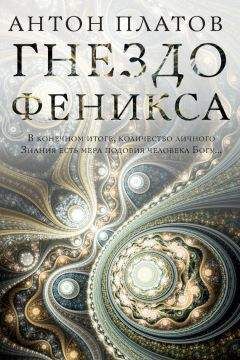Антон Уткин - Крепость сомнения
В Таганроге в частном собрании Дроздовский опять держал речь перед офицерами.
– Полковник, положа руку на сердце, – поинтересовался пожилой подполковник, – по душе ли вам защищать буржуазию? Пусть сама себя защитит.
– Мы солдаты, а не пророки, – увещевал Дроздовский. – Наше дело расчищать для них путь.
– А вы уверены, – не отставал подполковник, – что они будут, эти ваши пророки, что есть для кого расчищать?
Цимлянский посмотрел на Дроздовского, и ему показалось, что подполковник сбил его этим вопросом и Дроздовский не знает, что сказать.
– Если мы станем обставлять выполнение долга разнообразными обстоятельствами, – сказал наконец Дроздовский, – то потеряем время, а вместе с ним и все остальное. И защищать мы идем не буржуа, а русскую культуру.
– Но не лучше ли, полковник, – каким-то черезчур суровым голосом вмешался какой-то капитан-артиллерист, – иметь государство без армии, а не армию без государства?
– Может быть, и лучше, – ответил Дроздовский, – но если меня будут расстреливать большевики, я по крайней мере буду знать, за что. А вы, господа, извините, даже этого не будете знать.
Выходя из собрания, он столкнулся взглядом с Цимлянским и, признав в нем одного из своих офицеров, бросил со вздохом: «Господи, откуда это благодушие?»
И так, как было здесь, было до этого везде: отказ обставлялся десятком убедительных возражений: неясна задача, да мало сил, да не так делается, как хотелось бы тому или иному, да лучше и безопаснее на местах. Цимлянский внимал прениям безгласно, и в нем поднималась злоба на этих людей и презрение к ним. Но когда он сходился с ними ближе, входил в их обстоятельства, смягчался и смотрел на все более снисходительно. У одного были дети, у другого больные родители, третий был сам нездоров и обременен чем-то, и понимая это, Цимлянский соглашался, что все эти причины имеют значение и правомочие. И значило это, кроме всего прочего, что именно ему, молодому и здоровому человеку, подобает и предстоит выносить всю главную тяжесть завязывавшейся борьбы. «Я могу, – говорил он себе, – следовательно, я должен». И слова Аммиана Марцеллина снова обретали свое успокоительное значение и поднимали Цимлянского над сутолокой жизни. Философский взгляд римского историка позволял взирать на происходящее из-за грани размышлений. Просто оставалось отыскать свое место в этой извечной канители и его держаться.
«Иначе, наверное, не бывает», – думал тогда Цимлянский.
В Бердянске записались 75 человек, в Мелитополе – 28, Таганрог дал пятьдесят. Но уже эти сами по себе позорные цифры вызывали в Цимлянском не то усмешку, не то улыбку, значение которой было трудно понять.
октябрь 1998
Вероника принадлежала к числу тех женщин, чья самоуверенность вполне оправдывалась недостатком жизненного опыта. Не то чтобы она уж очень резко проводила черту, отделяющую ее от подруг и тех бесчисленных девушек, что каждый день заполняют московские улицы, но она ощущала некое избранничество, да и как же было его не ощущать, когда требования к жизни она предъявляла широкие, а других девушек было такое неисчислимое множество. Она привыкла находиться на острие атаки. Выводить мяч из глубины поля, совершать хитроумные распасовки, выкатывать мяч к воротам – вся эта работа была для нее слишком скучной, и это она оставляла другим. Себе же оставляла тот самый последний замыкающий удар, приводящий к голу, а также сопряженные с этим последним приятные обстоятельства.
– В чем твоя сила? – спросила она как-то Тимофея, когда они темной ветреной ночью шли по пустому, оголившемуся Покровскому бульвару.
– Моя сила? – усмехнулся он. Никогда ему не приходило в голову измерять значение собственной личности в таких категориях. – Не понравится тебе мой ответ.
– Говори, – приказала Вероника, охваченная азартом.
– Я как стекло, – сказал Тимофей. – Все проходит сквозь меня, а я всегда остаюсь на том месте, на котором всегда и был. Меня невозможно сбить с толку, хотя я и не могу сказать внятно, в чем он заключается, меня невозможно разбить, потому что я пуленепробиваемое стекло. Лучи света я пропускаю через себя, но не задерживаю, потому что я такое стекло, которое не нагревается. Я никуда не иду, я пребываю в покое. Покой мой благо для моей совести.
– По-твоему, все остальные только и делают, что сбиваются с толку?
– Я не знаю про остальных, – ответил Тимофей, – я знаю только про себя.
– Под лежачий камень вода не течет, – заметила Вероника, и в тоне, которым произнесла она эти слова, проглянуло раздражение.
– Почему? – возразил он. – Ты же вот притекла.
– И истекла, – хохотнула Вероника. Она любила фривольные шутки и не стремилась удержаться от брутальности, не заботясь о том, какое впечатление это может произвести на ее собеседника. В Тимофее она нашла достойного напарника в производстве двусмысленных, точнее – самых осмысленных и определенных шуток.
– А в чем твоя? – спросил он.
– Я необыкновенная, – сказала Вероника как-то просто и обыкновенно.
– Это как? – спросил он, удивленный не столько признанием, сколько интонацией.
– Это ты увидишь! – заверила она его и загадочно подмигнула.
Никто никогда не считал Тимофея чем-либо выдающимся, кроме него самого, но Веронике казалось, что под толщей шелухи она видит нечто, что в недалеком будущем сулит ей довольно престижного спутника жизни. Его творческие амбиции не стали для нее секретом, и она с первых же дней знакомства всячески подогревала их, неизменно проявляла интерес, ибо была девушкой со вкусом к интеллекту и с претензией на лавры мадам де Сталь, хотя никогда о такой не слышала. Иметь просто богатого друга ей казалось недостаточно и недостойно ее собственных дарований, в наличии которых она была свято уверена.
Он подкупал ее свободным суждением обо всем, заслуживающем внимания. Ей казалось, что ему известно абсолютно все, что стоит знать об этом мире, об его устройстве и о законах, которые его обеспечивают. И с ним она чувствовала себя причастной к этим тайнам, подернутым цинизмом, как патиной. Он казался ей человеком действительно способным забить гол. Но с другой стороны, ни с одним мужчиной до него она не чувствовала себя так неуверенно и неуютно. И это ее немножко смущало, потому что очень часто она не знала, как именно следует реагировать на ту или иную его выходку.
В его поведении она усматривала некое непонятное пока ей условие грядущего глянцевого успеха. Она не понимала, что его свободомыслие – всего лишь следствие смертельной и неизлечимой скуки, раскованность – следствие распущенности, а свободное суждение обо всем на свете – только летучая, ни на что не претендующая и никуда не ведущая игра неглубокого ума, скользящего без остановок по паркету остроумия.
Что скрывается за словом юродивый, она представляла себе очень смутно. Тем не менее, будучи девушкой упорной, она дала себе слово не опускать руки при первой же размолвке, а постараться изучить и понять механизмы управления этим человеком, который пока оставался для нее в чем-то загадкой, которую все-таки хотелось разгадать.
– Я поменяю твою жизнь, – сказала она ему как-то, – но сделаю это во сне. Проснешься как-нибудь, в зеркало посмотришься, а себя-то и не узнаешь. У нас, у волшебниц, так.
– Ты плохо поняла, в чем моя сила, – ответил он.
Оба они, как порождения своего времени, были и детьми и стариками одновременно, но взрослыми были лишь по видимости и в этом смысле прекрасно подходили друг другу. Но каждый втайне возлагал на другого надежды, что тот изменится и это позволит второму оставаться в своей сущности. Ко всему прочему, он ей действительно нравился.
август 1991 – октябрь 1998
Как бывает при начале всякой революции, когда какие-то люди объявляют себя комиссарами, назначают чиновниками, убеждают прочих в своих провидческих способностях, в начале девяностых такое же количество людей объявили себя банкирами, предпринимателями, членами правительств, политологами, хранителями суверенитетов и просто экспертами и консультантами по перечисленным вопросам жизни. Тимофей никем себя не объявил. Он предпочел смотреть на нее с обочины, хотя и двигался вдоль главной дороги в том же направлении, что и титулованные участники движения. От членов правительства, от политологов и бизнесменов, от участников «братского» движения он прятался в свой волшебный противогаз, которому при наличии воображения нетрудно было приписать удивительные свойства. Однако все это имело и обратную сторону: противогаз давал защиту и способен был поместить своего хозяина в самый эпицентр чужой жизни, однако за счет своей собственной. Для тех химер, которые танцевали перед его мысленным взором в пустых глазницах резинового шлема, он становился невидимым и, получив возможность безопасно наблюдать, сам терял возможность участвовать в жизни. Он стоял на обочине и выбирал момент, когда можно будет шагнуть с бровки в череду идущих. Но зачарованный колдовскими ритмами движения, чувствовал себя все менее способным сделать это. В конце концов ему даже стало казаться, что нет никакой разницы между ним, фантазирующим, и ими, живущими, ведь деятельность деятельных людей день ото дня окрашивалась в цвета такой тупой корысти, что возникало сомнение в реальности происходящего. Видения противогаза имели здесь неоспоримое преимущество.