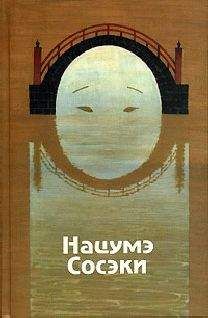Жан Жубер - Красные сабо
Подошла весна, и в деревне начались пересуды и волнения. Все знали, что молодой человек поселился в задней комнате школы: он утомлен и нуждается в отдыхе. Что ж, на первый взгляд ничего особенного, но время идет, и жители начинают шептаться, расспрашивать, подозревать самое худшее. Как-то вечером одна старуха, возвращаясь с луга с охапкой травы для кроликов, увидела Андре за окном. «Худющий, весь белый, а глаза вот такие, аж страх берет!» И действительно, деревню охватывает страх, страх близости этого недуга, который боятся назвать вслух, о котором говорят обиняками, как будто само слово уже таит в себе заразу. Многие семьи волнуются и громко возмущаются. Только этого еще не хватало — такой больной в школе! И их, в общем-то, можно понять. Пишут письмо инспектору школьного образования. В школу является мэр — толстый, неопрятный крестьянин, говорит он путано, но обеими ногами крепко стоит на земле: «Бедняга — такой молодой, ну и попал он в переделку, жалко, конечно, но придется ему убраться отсюда». — «Говорите тише, — просит Жермена. — Что, если он вас услышит!» Кюре не приходит, тот действует на расстоянии. Эти безбожники, эти красные, они навлекут беду на деревню, он всегда это предсказывал. Еще немного, и он начнет разглагольствовать о каре господней! Андре ничего не подозревает о поднявшемся переполохе. Впрочем, ему и не до того: состояние его резко ухудшается, кровохарканье лишает последних сил, он почти не встает с постели. Врач решает отправить его в парижскую больницу. Позже, говорит он, мы, может быть, найдем средство поместить его в горный санаторий.
При виде Парижа Андре охватывает волнение, почти радость. Он самостоятельно доходит до такси и говорит Жоржу:
— Знаешь, мне лучше! — И потом — Я хотел бы… я хотел бы проехать по Парижу. Это не слишком дорого, а?
Что же он хочет увидеть? Сену, Елисейские поля, Сен-Жермен и Люксембургский сад, и еще библиотеку Сент-Женевьев. Там он просит шофера на минутку остановиться.
— Посмотри, — говорит он Жоржу, — вот сюда я ходил читать по вечерам. У них есть все на свете книги. Надо будет как-нибудь показать тебе.
— Конечно, мы обязательно побываем там вдвоем, когда ты выздоровеешь.
Его помещают в больницу, где он чувствует себя потерянным, чужим для всех, он присылает оттуда короткое письмо, написанное карандашом на листке, вырванном из блокнота:
«Мое окно выходит как раз на стену соседнего здания, но перед ним есть крошечный садик с несколькими деревцами, кустами и скамейками, так что, в общем, все не так уж грустно…»
Я отправился в Клозье. Башни продолжают наступать на долину, где прежде были сады и огороды, но дядин домик все еще стоит, где стоял, — памятник ушедшей жизни, со своими тремя деревцами, огородиком, теперь уже совсем крошечным, и полуразвалившимся курятником.
— Значит, тебе нужен портрет Андре? — говорит мне Жаклина. — Он наверху, в маленькой комнатке. Иди вперед, а я за тобой. Нога у меня совсем разболелась, никуда не годится.
Эта комната нравится мне больше других: небольшое бюро, диванчик, по стенам — сплошь полки с книгами, фотография бурделевской маски Бетховена, репродукция фрагмента «Потопа» Микеланджело — женщина с напряженным, суровым лицом держит на руках ребенка, — а там, в углу, портрет; я подхожу и долго, пристально вглядываюсь в него: лицо такое же, как на ранее снятой фотографии, но черты его обострились, посуровели. Меня удивляют едва заметные усики, на фотографии их вроде не было, но, скорее всего, они отросли у него за несколько недель, проведенных в больнице. Рисунок сделан не очень умелой рукой, и все же в нем ясно угадываются увлеченность и талант художника, еще несколько неуверенный, боязливый. Можно до бесконечности размышлять об этих рано умерших юных существах, о том, что они хотели и обещали свершить; создать, быть может, некое творение, которое выросло бы подобно дереву, что принимается на самой бесплодной почве, презрев все трудности и препятствия. Хватило ли бы у Андре веры и сил преодолеть эти препятствия? Я вопрошаю эти глаза, которые смотрят на меня тем же пристальным взглядом, каким смотрели пятьдесят лет назад на себя в зеркало, я ищу в них ответа на другой, еще более важный, более существенный вопрос — и, так же, как он в ту минуту, вижу в них только смерть, одну только смерть.
— Он был замечательный мальчик, — говорит Жаклина, — по воскресеньям частенько сидел у окна и рисовал, не то что другие, которые бегали в кафе, на танцульки, на всякие праздники. Я тогда была маленькая, я подходила и заглядывала к нему через плечо. А он говорил: «Ничего не получается». Я так им восхищалась.
Она тоже считает, что я похож на него, у нее такое чувство, говорит она, будто я его наследник, будто я принял как эстафету тот страстный поиск, который ему не дано было довести до конца, а теперь я продолжаю его с помощью Слова.
Как-то днем он попросил зеркало — сиделка принесла его из своей комнаты и положила ему на постель, прислонив к согнутым коленям, чтобы ему легче было увидеть себя. Он рисовал около часа, а может быть, даже два.
— Ты, наверное, устал, мальчуган?
— Нет-нет, не беспокойтесь!
Закончив портрет, он подписался и поставил дату: 12 мая 1920 года.
— У меня болят глаза, — сказал он, — я очень устал.
Ночью он умер.
У меня есть только две фотографии моей матери в юные годы — их разделяют десять лет. Первая была сделана в 1914 году, в начале войны, карточку хотели послать Жоржу, который находился на фронте в районе Марны. Это групповой снимок с «продуманной композицией». В центре, в неизбежном бархатном кресле, сидит Жермена. На ней длинная, широкая черная юбка и блузка со стоячим воротником, под которой угадывается довольно полная грудь, от Жермены веет невозмутимым спокойствием. Рядом с ней, сжимая ее руку неосознанно ревнивым жестом, сидит Жаклина, она слегка хмурит брови, как бы желая утвердить свое первенство. Сзади, за ее спиной, — Жанна, а возле нее Андре — в воскресном костюме, жестком воротничке и при галстуке, стоит, опершись кончиками пальцев о спинку кресла. Моей матери здесь лет десять, она в узком платье, отделанном тонким белым кружевом, в темных чулках и высоких ботинках. Длинные прямые волосы сбоку около уха украшены довольно безвкусным бархатным бантом, но даже это не портит ее прелестного личика маленькой Джоконды. На этом семейном портрете, где позирующие тщательно расставлены и рассажены фотографом из Шаторенара, явно с душой художника, все взгляды устремлены в объектив и у всех на губах одна и та же слабая улыбка.
Вторая фотография — это небольшой портрет в овальной рамке, на оборотной стороне его четким почерком фиолетовыми чернилами сделана дарственная надпись тому, кто должен был стать моим отцом: «От твоей милой в двадцать лет с нежной любовью». Как же все изменилось за это десятилетие! Маленькая девочка превратилась в женщину, но даже и не в этом дело. Улыбка исчезла, уступив место серьезности, почти меланхолии, глаза словно стали больше, волосы подстрижены так коротко, что едва прикрывают уши. Впрочем, позже, после моего рождения, они станут еще короче, подстриженные по моде того времени «под мальчика». Главное, что поражает меня в лице матери, кроме по-прежнему трогательной и словно бы еще ярче проступившей красоты, — это то выражение печали, которому весь фон снимка, туманный и расплывчатый, сообщает нечто романтическое. Страдание, тревога оставили на этом лице свой след, и я вспоминаю слова матери, сказанные мне как-то: «Не так-то легко быть двадцатилетней! В этом возрасте я была не очень-то веселая». На фотографии это сразу бросается в глаза. Впрочем, причин для грусти было более чем достаточно: смерть ее матери, затем отца, затем Андре, четыре военных года и вечная нужда — ведь, пока Жорж был на войне, Жермена должна была кормить все семейство одна, на свои жалкие учительские гроши. Было от чего впасть в меланхолию, хотя я думаю, что деревенская жизнь со своими играми, посиделками, сменами времен года и долгими воскресными прогулками в полях для девушки ее возраста еще не совсем потеряла свою прелесть.
В четырнадцать лет ее посылают в Монтаржи, готовиться к экзаменам по «дополнительному курсу». Она живет пансионеркой у мадам Буассан, грязной, злой, волосатой старухи, в ее мрачной квартире на первом этаже, в самом центре города. Ей отвели узенькую комнатку с железной кроватью, одним соломенным стулом и туалетным столиком, на котором стояли таз и фаянсовый кувшин для умывания; моя мать наверняка чувствовала себя очень одинокой, и, думаю, ей нередко случалось поплакать. В комнате было слишком холодно, и она не могла там заниматься, поэтому ей приходилось готовить свои бесчисленные, так изнурявшие ее задания в кухне, под неумолчное ворчание старухи о том, что керосин, мол, нынче недешев и что нечего здесь ночи просиживать, пора идти спать.