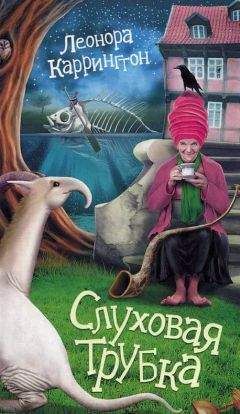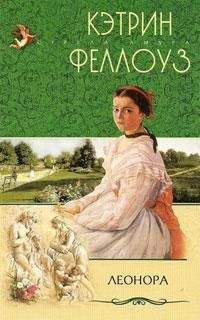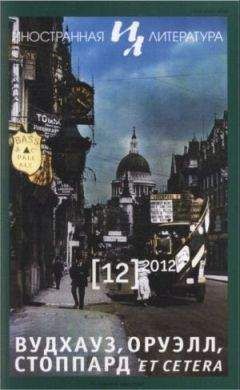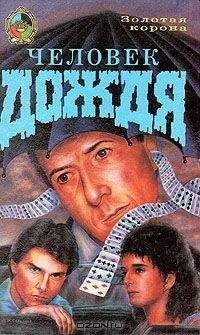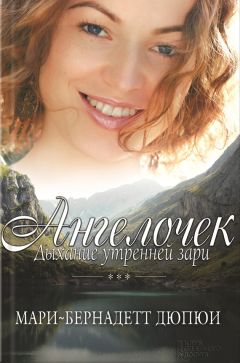Алексей Слаповский - Поход на Кремль. Поэма бунта
По-настоящему ответить матери следовало бы однозначно и в соответствии с истиной: убил, потому что надо было убить. Но, естественно, Толоконько хватило ума понять, что так отвечать нельзя. А как?
Он вдруг всей спиной почувствовал давящую сзади ненависть высоких начальников, но тут же и свою ненависть к ним. Отдали они приказ или не отдали, дело десятое, но они создали эту работу такой, что Сергей ее исполняет, исходя не из своих понятий о жизни (которые у него нормальные), а из их установок (которые служебные). Если бы обошлось без огласки, они бы слова не сказали, наоборот, все бы сделали для того, чтобы этот мелкий сор не высыпался из их уютной избы. Ну влепили бы выговор…
То есть Толоконько, как ни странно, пришел к такому же выводу, что и Кабуров. И поэтому он ответил ждущей матери, кивнув назад головой:
– Это они.
И больше ничего не добавил, но все всё поняли. И если отдельным, не самым глупым людям было ясно, что принцип разделения ответственности нарушать нельзя, толпа, как это было и тысячу, и десять тысяч лет назад, любила виноватых, на которых указано точно и ясно.
– Надоело! – закричала Гжела, не боясь, что Кабуров ее осудит за выскакивание. Не тот момент.
И этот любимый ее лозунг оказался настолько близок всем, что отозвалось сотнями голосов почти сразу же:
– Надоело!
И со скандированием: «На-до-е-ло! На-до-е-ло! На-до-е-ло!» – все подались вперед. Мосин взял Тамару Сергеевну под руку, под телом сына, выводя из этой давки, они успели укрыться возле подъезда дома, где был огражденный перилами закуток.
А масса тяжелым расплавленным свинцом полилась на заграждение.
Омоновцы попытались выполнить свой долг, они были умелые бойцы, но боевая техника сослужила им недобрую службу. Обычно они применяли тактику мягкого отхода, выводя дубинками из строя передних, особенно рьяно наскакивающих, в то время как с боков их товарищи выхватывали зачинщиков и уводили в машины. Затем, ослабив и проредив авангард, они постепенно останавливались и начинали двигаться обратно, переходя в победоносное наступление. Но техника оказалась стеной, к которой их приперли, вынуждая падать, отползать. Поэтому через минуту-другую толпа уже была на грузовиках, бронетранспортерах, милицейских патрульных машинах, топча их, уже переваливала эту механическую гряду, при этом, надо заметить, омоновцев и милиционеров не столько били, сколько сминали массой, вдавливали под колеса, между машинами, где они беспомощно барахтались, а самые благоразумные ложились, закрыв голову руками и вжимаясь в асфальт.
Потому впоследствии выяснилось, что при этом первом лобовом столкновении не было ни одной человеческой жертвы. Хотя физические повреждения разной степени, конечно, были – как и при дальнейшем развитии событий.
Челобеев и Шелкунов успели нырнуть в бронетранспортер и наглухо задраиться, чувствуя себя консервами, которые могут в любой момент вскрыть. Тяжелую машину пытались раскачать, но это было не так просто.
– БТР не ежик, его не перевернешь! – с неуместным легкомыслием сказал водитель-сержант.
Рядом с ним сидел рядовой дембельского расхристанного вида, расстегнутый на все, что только можно. Между ним и водителем была початая бутылка портвейна, а пустая валялась рядом, они совали друг другу засаленные карты, играя в очко:
– Еще. Еще. Хватит, себе!
Челобеев и Шелкунов переглянулись и ничего не сказали. Они понимали, что легко приказать солдатам перестать безобразничать, но – зачем? Что это изменит?
– На-до-е-ло! – гремело над ними.
– Надоело! – кричал разумный Коля Жбанов, которому надоело быть разумным, а сам изо всех сил обнимал Лику Хржанскую, чтобы ее не повредили в давке.
– Надоело! – кричала Лика, которой надоело дружить с теми, кто влюблялся в ее внешность и ни разу не влюбился в ее ум, а он у нее есть!
– Надоело! – кричала Тая, которой надоело сковавшее душу горе, но она не представляла, чем теперь сможет еще жить.
– Надоело! – кричал ни во что не верящий Леня Борисовский, которому надоело ни во что не верить, но сегодня, вот сейчас, когда ему досталось чьим-то кулаком по спине, он понял, что все-таки кое во что верит, а именно в то, что он реально есть на свете, а это уже немало.
– Надоело! – кричал Саша Капрушенков, которому надоело быть пьяным, но трезвым быть надоедало еще быстрее, и он предвидел свою гибель (и действительно умер от запоя молодым, в тридцать восемь лет).
– Надоело! – кричал его друг Сережа Костюлин, которому на самом деле было все равно, и он теперь радовался, что, оказывается, это не все равно, а – надоело.
– Надоело! – кричал рафинированный и изящный Стасик Паклин, жалевший, что рядом нет отца, чтобы ему сказать, что Стасику надоело быть его сыном.
– Надоело! – кричал провокатор Ложкин, которому надоело быть провокатором, а теперь он радостно чувствовал, что стал бунтовщиком и готов… во имя… но на что именно готов и во имя чего, Ложкин еще не понимал.
– Надоело! – кричал Юра Цедрин, которому никогда ничто не надоедало, и, собственно, именно это ему надоело.
– Надоело! – кричал Йогурт, на ходу соображая, что ему надоело больше всего.
– Надоело! – кричал юморист Вилен Свободин, которому надоело быть юмористом, но он понимал, что это его проклятье на всю оставшуюся жизнь, ибо юмор стал его внутренним наркотиком и даже собственные мысли его не интересовали, если были не смешны.
– Надоело! – кричал Валерий Юркин, брат покойного, которому надоело, что за всю жизнь на него никто не обращал серьезного внимания.
– Надоело! – кричала Антонина Марковна, которая за последние три года схоронила мать, двоюродного брата, а теперь вот мужа, сколько можно!
– Надоело! – кричала Аня, ее дочь, которой надоело кормить и воспитывать двух детей, работая на двух работах, и принимать унизительные ласки от двух нелюбимых мужчин, надеясь выйти за одного из них замуж, но любя на самом деле кого-то третьего, кого еще не встретила.
– Надоело! – кричала Алевтина, другая дочь, вспомнив, как ее, совсем маленькую, тридцать с лишним лет назад, нес на своих плечах на праздничной демонстрации тот самый человек, который теперь лежит в гробу, и до нее словно только сейчас дошло, что отец навсегда умер, и она заплакала.
– Надоело! – кричал старик Бездулов, уставший быть больным и старым, но еще не готовый умереть.
– Надоело! – кричал Опанасенко, тот самый, из ДЭЗа, где не работа, а сплошные дыры и прорехи, и ему надоело быть перед всеми всегда виноватым.
– Надоело! – кричал Равиль Муфтаев, дворник, которому надоело мести и скрести, а мусора не убывает изо дня в день, из года в год.
– Надоело! – кричала старуха Синистрова, которой надоело вспоминать о своей жизни, где были два-три момента радости, две-три кочки среди болота печали (так ей сейчас хотелось думать, хотя было не совсем так, набралось бы радости и на пять-шесть моментов).
– Надоело! – кричал Лёка Сизый, которому надоело быть на свободе, не умея ее использовать, а вот сегодня, возможно, схватят и посадят в тюрьму, а там все будет упорядоченно: подъем, уборка, завтрак, работа – и ни одного вопроса к самому себе по поводу следующей минуты.
– Надоело! – кричала Вероника Струдень, которой надоела жизнь без взаимности.
– Надоело! – кричали сестры Кудельновы, которым надоела жара.
– Надоело! – кричал интеллигент Исподвольский, побратавшийся с народом, но чем дальше, тем больше понимавший, что народ ему уже надоел.
– Надоело! – кричала проститутка Инна Квасникович, которой надоело любить за деньги, а без денег она любить разучилась, то есть она могла удариться по увлечению в секс, но секс не любовь, надо же видеть разницу!
– Надоело! – кричал Злостев, которому уже надоело кричать, но молчать в кричащей толпе невозможно.
– Надоело! – кричали гинеколог Роза Максимовна Петрова, Женя Лучин, Петя Давыденко, любящий группу «Раммштайн», но сегодня убедившийся, что есть в жизни вещи и покруче.
– Надоело! – кричали старуха Мущинова, молчаливый Тихомиров, балагуристый Жерехов.
– Надоело! – кричал человек без имени, который не знал, что именно ему надоело, однако надеялся, что по ходу крика сообразит.
– Надоело! – кричали и остальные сто двадцать семь человек, шедшие за гробом Юркина, предчувствуя, что не дождаться им поминок со сладкой кутьей и горькой водкой.
– Надоело! – кричал политолог Холмский, предвидя появление в Интернете заголовков со статьей, автором которой будет он.
– Надоело! – кричал Витя Мухин, воображая себя не в этом времени, а в далеком прошлом, представляя себя флибустьером, но это, конечно, еще детство в нем не выветрилось, поэтому Витя, как мог, старался добавить своему крику басовитых нот.
– На-до-е-ло! – кричал Ник Пирсон, которому надоело уже репортерствовать в этой абсолютно непонятной и неорганизованной стране, и он представлял, как будет отдыхать где-нибудь на Доминиканском островке, лежать на белом коралловом песке рядом с загорелой красоткой, потягивать ледяной коктейль – и… тосковать по этой непонятной и неорганизованной стране.