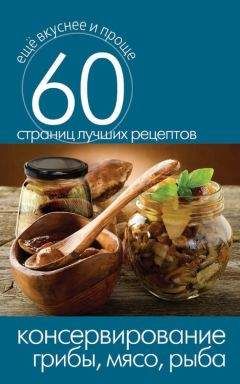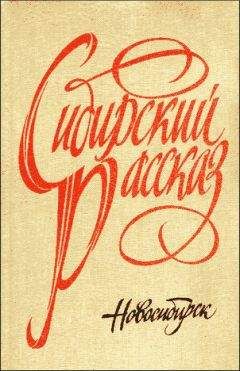Евгений Городецкий - АКАДЕМИЯ КНЯЗЕВА
Обедали, как всегда, на повороте в начале обратного хода, на берегу удивительно красивого маленького озерца. Вода в таких озерцах стоит вровень с берегами, она чиста, прозрачна и чуть горьковата, берега пологи и устойчивы. Лес обрывался за несколько десятков метров, и, окаймленные темно-зелеными мхами, озерца эти кажутся голубыми и выпуклыми.
Заблоцкий возился с костром, Князев сидел поодаль, упершись спиной в березку, и о чем-то думал. Последние дни он был как никогда задумчив и молчалив.
Костер не ладился: дымил и гас. В довершение всего Заблоцкий обжег палец. Кое-как он вскипятил котелок воды, вылил туда банку сгущенки, открыл говядину и пригласил:
– Кушать подано, ваше сиятельство!
Князев очнулся, пересел к костру. Молча съел свою порцию, молча выпил молоко и, предоставив Заблоцкому мыть посуду, сел на прежнее место.
Заблоцкий скреб котелок землей и вдруг понял, что думает о Князеве с недоверием, с какой-то даже подозрительностью. Вот он, Андрей Князев, чьей волей весь отряд в, течение полутора месяцев обречен на каторжный труд, без преувеличения каторжный, устроил себе разгрузочный день, сидит под деревом, покусывает веточку, лицо спокойно, даже безмятежно, все в порядке: ребята вкалывают, дело движется. Будет руда – почет и уважение, не будет руды – все шито-крыто, пикетажки особого отряда в сундук, а что стоит за этими торопливыми записями на грязноватых страницах с высушенными комарами – дело прошлое.
Кому все это надо?
И он, сложив посуду в рюкзак, неожиданно для самого себя задал этот вопрос вслух. Князев вынул веточку изо рта и спросил:
– Вы что-то сказали?
– Кому все это надо, говорю, – повторил Заблоцкий, поеживаясь, как перед прыжком в ледяную воду, но Князев непонимающе взглянул на него, отступать было некуда, рано или поздно говорить об этом придется, и раз уж зашла речь, тянуть и выкручиваться нет смысла. И Заблоцкий прыгнул очертя голову.
– Вся эта горячка к чему, вот что, – сказал он, – Надорвемся ведь! А пронюхает начальство – вам первому несдобровать. Энтузиазм, конечно, штука хорошая, и вы умело на нем сыграли, но надо же и о людях думать. Неужели нельзя было дождаться следующего сезона? Подготовились бы спокойно, не торопясь…
Князев смотрел на него не мигая. Заблоцкий почувствовал, что говорит совсем не то, но остановиться уже не мог и, маскируя смущение запальчивостью, понес совершеннейшую чушь. Что-то об охране труда, о семичасовом рабочем дне, о конституции и тщеславии. Ему было стыдно и боязно наткнуться на твердый взгляд Князева, и он апеллировал то к озеру, то к береговой роще. Наконец он нашел в себе мужество остановиться.
Боже, как он насорил! От обилия его неряшливых слов вокруг потемнело, они висели в воздухе, не оседая, как взвешенные частицы.
Князев смотрел уже не на него, а куда-то левее и выше его головы.
– В начале нашего знакомства, – сдержанно сказал он, – вы заявили, что ваше дело – таскать рюкзак. Не вернуться ли нам к исходным позициям?
Заблоцкий почувствовал, что краснеет. Промолчать? Вспылить? Обидеться? Но он не сделал ни того, ни другого. Встал и вполне искренне сказал:
– Александрович, извините. Ерунду я какую-то плел. Считайте, что ничего этого не было.
Князев ничего не ответил, отвел глаза. Они молчали до самого конца маршрута. На последней точке оба закурили, и Князев сказал, провожая взглядом сизоватый дымок:
– Вот вы ученый. Допустим, у вас родилась интересная идея. Вы начали воплощать ее на бумаге, а вам подсовывают что-нибудь хорошо известное, но не представляющее интереса.
– Александрович, – попросил Заблоцкий, – я все понял, я не прав, не будем больше об этом.
– Может, и поняли, но не все. Слушайте, чтобы нам больше этой темы не касаться.
Он старался говорить спокойно, но в голосе его слышалось волнение.
– Пусть я, как вы говорите, тщеславный. Со стороны виднее, конечно. Но я знаю, что, если мы в этом сезоне не схватим интрузию за глотку, не застолбим ее, на будущий год Арсентьев мне восток не отдаст, будьте уверены. Он найдет, кому поручить там поиски… – Князев волновался все сильней, коротко рубил воздух ладонью. – Я сто раз себя спрашивал: «Имел я право поступать так, как поступил? Не зарвался ли я?» Но я не могу это бросить. Это – цель моей жизни, итог. Я восемь лет кормлю здесь комаров! Так имею я право довести свое дело до конца?
– Имеете, – без колебаний ответил Заблоцкий. – Готов подтвердить это где угодно.
– Ладно, – пробормотал Князев. – Будем надеяться, что ваше заступничество не потребуется.
Берегом реки они возвращались в лагерь. Солнце светило низко, деревья на противоположном берегу закрывали его, местами оно выглядывало над прогалинами, и тогда длинные тени путников изгибались по камням, ширились и где-то за кустарником сливались в одну большую вечернюю тень.
– Ну как, отдышались после вчерашнего? – спросил Князев.
– Не маршрут – прогулка, – ответил Заблоцкий, и до него наконец дошло, что разгрузочный день Князев устроил не для себя.
«Завтра придется наверстывать упущенное, – думал Заблоцкий. – Надо скорей заканчивать планшет и переходить на восток. Так дай мне бог выдержать все это, не свалиться, не ослабеть, потому что выйти из строя сейчас – значит предать».
Первый чирей вскочил у Матусевича на запястье левой руки, ниже ямки за большим пальцем. Матусевич прижег его йодом и перебинтовал, чтобы не тревожил край рукава, а часы стал носить в брючном «пистоне». Рука побаливала, днем это как-то не замечалось, но по ночам кисть ломило и дергало. Случись такая болячка на правой – работать молотком было бы трудно.
Угнетало другое. За неделю он и Лобанов набегали около двухсот километров, два раза ночевали где придется, прямо на земле, согревая друг друга спинами, потому что возвращаться в лагерь было слишком далеко, переколотили тысячи больших и малых валунов – и все впустую. Невысокие вытянутые гряды ледниковых морен, окруженные болотами, содержали в себе все породы местного комплекса – от массивных кремовых доломитов нижнего кембрия до пузырчатых лав триаса. Не было только габбро-долеритов.
Спустя несколько дней Матусевич, умываясь, нащупал на шее прыщик. Он и его прижег и заклеил лейкопластырем, но через суткн было уже больно нагибаться и поворачивать голову.
– Подорожник приложить бы, – сказал Лобанов, – это ты простыл, когда мы на торфянике кемарили.
Но подорожника не сыскать было, как и дорог.
Они шли поиском от северного борта долины к южному, под прямым углом пересекая направление движения древнего ледника. До южного борта оставалось километров восемь. Достигнув его, они переместятся восточнее и пойдут в обратном направлении. И так до самого конца. До какого – никто не знал. До конца долины или до конца сезона, а, может быть, оба эти конца совпадут, и тогда…
Последнее время Матусевич все чаще думал о себе, о своей работе, о Нонне, которая осталась в Киеве, и в нем рождался тоскующий напев: «Ты одна, голубка лада, ты одна винить не станешь, сердцем чутким все поймешь ты, все ты мне простишь…» Он помнил и любил эту арию, и тема его далекой Ярославны была для него предвестником других тем, исполненных все в том же славянском миноре, где и грусть, и раздумья, и вера, и несгибаемая твердость. Глядя на развалы седых от лишайника глыб, он вспоминал: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?», и молоток в руке тяжелел, а округлая сопка, проглядывающая сквозь чахлые деревца, виделась исполинским шлемом. В такие минуты по спине его пробегал холодок, глаза влажнели от восторженных слез. Но длилось это недолго, и сам он никогда не мог вызвать в себе эти сладостные ощущения. Они возникали непроизвольно, как непроизвольно рождалась в нем музыка, и вместе с музыкой исчезали.
В маршруты они с Лобановым ходили теперь поодиночке. Получилось это само по себе. В первый же день у Лобанова откуда-то появился другой молоток, и он предложил:
– Ты иди по этой гривке, а я – по той. Если что будет, я покричу.
Видя, что Матусевич колеблется, он заверил:
– Не трухай, я к вашим камням третий год приглядываюсь. Габбро-долериты-то уж как-нибудь отличу.
Матусевич согласился, но предварительно устроил Лобанову небольшой экзамен на определение пород. Тот не ошибся ни разу. После этого они так и ходили – вместе и не вместе, не теряя друг друга из виду. Лобанов как-то заикнулся, что хорошо бы вообще маршрутить порознь, вдвое быстрей пошло бы дело, однако Матусевич и слушать не стал.
– Разве можно, Коля, – сказал он. – Нам Андрей Александрович доверился, а ты предлагаешь такое…
Лобанов усмехнулся.
– Ему теперь все до фени. Семь бед – один ответ.
– Нет, нет, что ты, – затряс головой Матусевич. – Не могу я его подводить, нельзя. У нас еще есть время.
– То-то и оно, что «еще», – проворчал Лобанов.
Третий чирей вскочил на бедре, и почти одновременно с ним на скуле – четвертый. Ночами Матусевича то знобило, то бросало в жар. Утром он с трудом поднимался, каждое неловкое движение отдавалось резкой, долго не утихающей болью. Чирьи росли, стягивали покрасневшую вокруг кожу и не собирались прорывать.