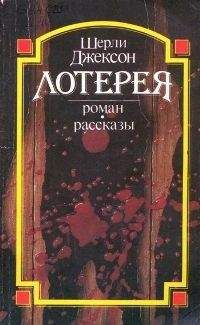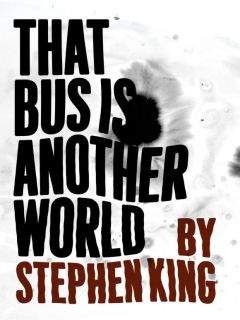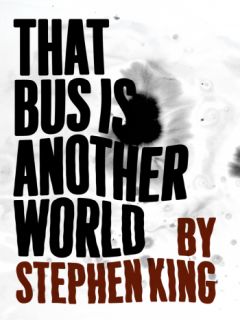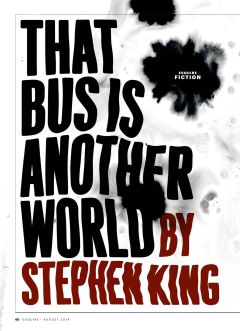Татьяна Соломатина - Мой одесский язык
Чувствуем себя дураками со своей дурацкой бутылкой «Курвуазье». Пошлый коньяк под пошлый лимон и «глубокомысленные» беседы на опошленные донельзя темы – это не для здесь.
– Издателю сюда не надо! – говорю я. – Он бы не выжил.
– Ещё шашлык у родителей во дворе, и Любка плов из мидий досматривает, Ирка готовила, я же знаю, вы любите.
Мы стонем. Мы объелись уже заранее, только глянув на стол, накрытый в Ленкином доме, и учуяв запах шашлыков оттуда, из-под тени винограда.
– Лена, давай сразу на море!
– За стол!!! – рявкает моя подруга, прототип героини второй новеллы из «Большой собаки», так и не сменившая места жительства. Она построила новый дом, родила сына, сажает розовые помидоры и трудится стоматологом. Очень хорошим, замечу, стоматологом. Плохие стоматологи не строят дома, не управляют собственными новыми автомобильчиками и не выглядят, как королевы.
Покорно садимся. По первой, за встречу.
– Закусывайте!
По второй, чтобы почаще встречаться.
– Закусывайте!
По третьей, за тех, кто в море. Так положено.
– У нас кто-то есть в море? – уточняю я.
– В такой большой семье, как у меня, всегда кто-то есть в море, кто-то в горе, кто-то в радости, кто-то в гадости! – отвечает Ленка. – Закусывайте!
Вот что мне в ней нравится, кроме всего прочего. Для неё семья – это всё. И все. Папа, мама, брат-двойняшка, жена брата и конечно же племянница. Двоюродный дядя и подруга троюродной тёти. Друг двоюродной сестры бабы Лиды и подруга Кати. Ну той Кати, что когда-то жила по соседству с Михал Семёнычем.
Я не знаю, кто они такие, эти Лиды и Михал Семёнычи. Ну просто не помню уже. А может, никогда и не вспоминала и не контурировала – проходили фоном. Не фоновая здесь только Ленкина клановость – способность к интернированию всех Ленкиной семейной сущностью. В этом доме всегда рады гостям. В этом доме можно месяцами жить, полностью ассимилируясь как с обитателями, так и с обстановкой. Дивану и туалету ты сразу становишься своим. И никто, и никогда – ни словом. Разве что упрёком:
– Я специально встала на час раньше, вам рыбы пожарить. Что значит, чашка кофе? Садись и жри, я что, зря здесь на час раньше вставала? Жри, чтоб я видела, а я на работу!
И садишься, и ешь, потому что это не просто жареная рыба. Это любовь к тебе. Это любовь ко всем, прошитая в геноме.
Это настоящий одесский дом. Таких уже не делают.
По четвёртой уже в тени винограда. Потому что после третьей, еле выждав время права на первые ваши самые близкие поцелуи и рассказы на троих, начинает подтягиваться родня.
Первым появляется Ленкин отец.
– Привет!.. – бегло, мельком – нам. – Лена, у тебя нет капроновой нити?! – строго к дочери.
Некогда очень красивый и статный Ленкин отец. Баловень вечно жаждущего его женского окружения. Любимец страждущей публики. Хирург с большой буквы и прописной ловелас. О, я помню, я помню, Пётр Иванович, как мы с вашей дочерью страдали из-за очередных неудач на наших юных девических фронтах, и я осталась ночевать в вашем доме. Потому что мы с Ленкой поссорились. Я просто переползла ту калитку, что отделяет дом вашей дочери от вашего дома, и осталась у вас ночевать. В вашем доме всегда было спокойно, потому что там всегда Нина. Ваша Нина, которую вы обожаете, не смотри что кровушку её вы просто ковшом хлебали. Всегда красивая, всегда нежная, всегда уютная Нина, уткнувшись в которую можно выплакать всё что угодно, и она никогда ни за что не осудит. Поссорившаяся со мной «навсегда» Ленка стелит мне в одной из комнат вашего дома постель. Мы не разговариваем, потому что поссорились «навсегда», и ещё потому, что от нас так несёт спиртным, что, начни мы говорить, – и все, как всегда, многочисленные обитатели вашего дома окосеют, как рыбы, в аквариум которых плеснули стакан водки. Ленка, постелив хрустящее и белоснежное, гордо удаляется, не глядя на меня. Я, расшвыривая ставшую непокорной одежду, раздеваюсь до совсем и, обиженная на весь мир, падаю в койку с единственным желанием – оплакивать до рассвета свою неудавшуюся древнюю двадцатилетнюю жизнь. Но, внезапно погружаясь в льняную высокородную свежесть, мгновенно засыпаю счастливой. Утром вы тихо заходите в комнату, Пётр Иванович, и, укрывая меня одеялом от предрассветной прохлады, вдруг замираете…
– Таня, а почему ты спишь под скатертью?
Моя навеки рассорившаяся со мной, моя любимая подруга даже в невменяемом состоянии сознания должна была позаботиться. Она должна была постелить мне постель. Подумаешь, полкой промахнулась. Подумаешь, вытащила фамильную скатерть для особо торжественных случаев!
– Чёрт, чёрт, чёрт!!! То-то я смотрю, одеяло никак в пододеяльник не лезет! – весело ругается Ленка за утренней шурпой, сваренной вами, Пётр Иванович, для юных балбесок и вообще для всех, кто сейчас тут, в доме. Никто и не знает, сколько их сейчас тут. Июль. Одесса. Лиманная улица. Через дорогу Чёрное море. Шурпа варится вами в огромном котле, подвешенном над костром. И вам, между прочим, в отличие от нас всех, только-только сдавших сессии, и многочисленных ваших друзей-родственников-знакомых и знакомых знакомых – на работу. И не на какую-то там незаметно проходящую мимо службу с кульманами и кохинорами. Вам в высокородный мир служения скальпелям, расширителям, зажимам, в профильное хирургическое святилище под названием «отделение» и алтарь его – операционную.
– Свежайшее всё. Только вчера барана приволокли, слава богу, уже заколотого. Встал пораньше, разделал, сварил. А то как-то благодарные пациенты из соседней Молдавии живого привезли прямо на дом. Так он тут у нас жил, не знали, что делать с ним. Сто раз собирались заколоть, так Нина плакать начинала, так к нему привязалась. А он – вот вроде баран бараном, – но как только я собираюсь соседа позвать, чтобы заколоть, нервничать начинает, к Нине бежит. Так и жил тут на правах собаки… Так вот, давайте, девочки, немедленно маленькую холодненькую рюмочку – и горячее, горячее! Почувствуете себя птицей Феникс! – говорите вы, Пётр Иванович, тогда и, налив нам по маленькой холодненькой и по тарелке горячего супа, уезжаете на работу.
Ах, Пётр Иванович! Вам правда в Ленкином доме сегодня срочно нужна капроновая нить?
А помните, Пётр Иванович, как мы с вами пили на капоте вашей старой машины «на коня» после какого-то дня рождения? На мне были новые полусапожки… Или ботинки? Очень похожие на нынешние ботильоны. Я копила на них чуть не полгода. У полусапожек был десятисантиметровый каблук. Массивный, но изящный параллелепипед. Я копила, я купила и впервые надела в ваш дом, на какие-то из ваших дней рождения. А может быть, и на Пасху. Или тогда совпало – ваши дети родились как раз на Пасху, плюс-минус – иногда совпадает. На их день рождения иногда собирались странные компании. Понятно – двойняшки. Празднуют всегда вместе, и разношёрстным компаниям поневоле приходится проникаться духом семьи. По воле. По доброй воле. Злые и подневольные здесь, в вашем доме, надолго не задерживаются.
Я тогда задерживаюсь и пью с вами на капоте уже бог знает на какого «коня».
Утром я обнаруживаю, что у одного из моих прообразов современных ботильонов нет каблука. Ну то есть совсем.
– Ленка! – звоню я подруге. – Вы двор ещё не подметали после вчерашнего?! – плачу я в телефонную трубку.
– Нет. Что-то потеряла? – догадывается она с ходу. Чего там догадываться, нормальное явление для дворов этих домов – в них постоянно что-то теряют. И не менее постоянно что-то находят.
– Мы с твоим папой пили-пили, пили-пили, пили-пили на капоте, потому что он мне всё время говорил: «Кто не пьёт «на коня», тот подлюка и свинья!» – а утром у меня каблука не оказалось! Как я добралась домой?
– На такси ты добралась домой. На такси с хорошо известным папе таксистом.
Каблук находят, и в сапожной мастерской мне его присобачивают на место. Становится лучше, чем было. Одесса славилась отличными сапожниками. Ремонты обуви были на каждом шагу. И в каждой будке, в каждом подвальчике сидел такой колоритный типажок, что куда там этим несчастным плеядам писателей из всех вместе взятых по компасу школ!
Ах, Пётр Иванович! Вам, правда, в Ленкином доме сегодня срочно нужна капроновая нить?
Вы гнусный тип, Пётр Иванович. Вы – диктатор, зануда и высокомерный зазнайка. Вы один из самых прекрасных типажей, встреченных мною на этой планете, Пётр Иванович. Вы – заботливый, внимательный и всегда придёте на помощь.
Мы взрослые и умные женщины, мы всё понимаем. Ленка находит вам капроновую нить.
– Ну вы уже идёте или что?! – нервно и зло выпаливаете вы, Пётр Иванович, теребя в руках капроновую нить. Стол уже накрыт, все вас ждут! – так же нервно и зло вы выходите за дверь.
– Сильно сдал? – Ленка смотрит на меня, как маленький львёнок из какого-то глупого мультфильма. Львёнок из зоопарка очень гордился своим папой. Папа громче всех рычал, и круче всех прыгал, и рассказывал львёнку про джунгли. А потом оказалось, что папа вырос в зоопарке, и все его джунгли и саванны – просто выдумка, пфуй, мыльный пузырь! Львёнок морщит лоб и не знает, как дальше с этим жить. Глаза львёнка полны салатом мелко нашинкованного детского наивного отчаяния и ненависти к старому льву-обманщику под «шубой» огромной, непобедимой ничем и никем любви к нему же.