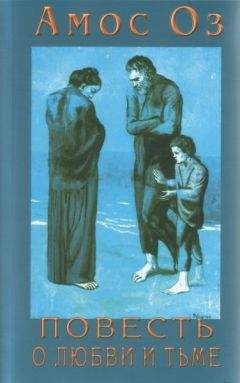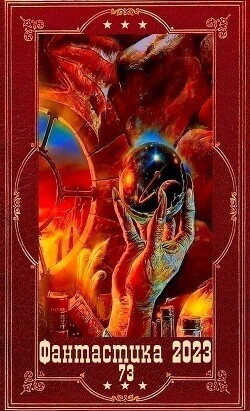Повесть о любви и тьме - Оз Амос
Многие годы посвятил дядя Иосеф созданию книги об Иисусе из Назарета. В своей книге он утверждал – и это одинаково поразило и христиан, и иудеев, – что Иисус, родившийся евреем и умерший евреем, вовсе не имел намерения создать новую религию. Более того, автор видел в Иисусе “носителя подлинно еврейской морали с большой буквы”. Аха-ха-Ам уговаривал Клаузнера убрать эту фразу и некоторые другие, чтобы не разразился в еврейском мире страшный в своей ярости скандал. Книга вышла в Иерусалиме в 1921 году, и скандал тут же грянул – и в среде евреев, и в среде христиан. Еврейские ультраортодоксы обвинили Клаузнера в том, что “миссионеры купили его за серебро и золото, дабы восхвалял он и возвеличивал этого человека”, а англиканские миссионеры в Иерусалиме, со своей стороны, потребовали от архиепископа, чтобы тот отрешил от должности доктора Данби, который перевел на английский язык “Иисуса из Назарета” – книгу, “отравленную ересью, представляющую нашего Спасителя этаким реформистским раввином, простым смертным, абсолютным евреем, у которого нет ничего общего с церковью”. Своей всемирной славой дядя Иосеф в значительной мере обязан этой книге, а также следующей – “От Иисуса до Павла”, вышедшей в 1936 году.
Однажды дядя Иосеф сказал мне примерно следующее:
– В школе, мой дорогой, тебя наверняка учат всей душой ненавидеть этого трагического, этого удивительного еврея, и дай бог, чтобы не учили тебя плеваться всякий раз, когда ты проходишь мимо его изображения или распятия. Когда ты вырастешь, мой дорогой, прочти, пожалуйста, невзирая на гнев твоих учителей, Новый Завет, и тогда ты узнаешь, что Иисус был плотью от плоти нашей, костью от кости, настоящим праведником и чудотворцем, истинным мечтателем, понятия не имеющим о политике. Но, несмотря на это, его обязательно признают, и он займет свое место в пантеоне великих людей народа Израиля, рядом с Барухом Спинозой, который тоже подвергся религиозным гонениям и тоже достоин того, чтобы были сняты с него все обвинения. Отсюда, из обновленного Иерусалима, должны мы возвысить свой голос и обратиться к Иисусу и Баруху Спинозе: “Ты брат наш! И ты брат наш!” И знай, что те, кто судит их, – не более чем евреи вчерашнего дня, с узким кругозором, они, словно черви в редьке, не видят дальше своего носа. А чтобы никогда не уподобиться – не приведи господь! – кому-либо из них, ты, мой дорогой, должен много читать. Читай, будь добр, хорошие книжки, читай, читай и еще раз читай! Кстати, мою маленькую книжку о Давиде Шимони [28] я дал твоему дорогому отцу с условием, что и ты ее прочтешь. Итак, читай, читай и еще раз читай! А теперь, будь любезен, спроси госпожу Клаузнер, дорогую тетю Ципору, где здесь мазь для кожи? Где моя мазь для лица? Скажи ей, будь добр, что речь идет о той мази, что была прежде, ибо новую мазь нельзя предлагать даже для собак. Известно ли тебе, мой дорогой, как велика пропасть между понятием “мессия” в чужих языках и нашим “машиахом”? Хотя слово “мессия” происходит от древнееврейского слова машиах, и оба они имеют одно значение – помазанник. Однако наш Машиах – это помазанник, иначе говоря, тот, кого помазали елеем; у нас каждый первосвященник – помазанник, и каждый царь из наших царей – тоже помазанник, и слово это в нашем языке сохраняет самое близкое родство со словом “мазь” (мишха на иврите) и носит прозаичный, обыденный, будничный характер. Это совсем не похоже на то, что видим мы в языках других народов, у которых Мессия означает “избавитель” и “искупитель”… Впрочем, возможно, тебе, в твоем возрасте, еще нет дела до этих проблем? Если это так, то возьми ноги в руки, беги к тете Ципоре и попроси у нее то, о чем я тебе сказал… Но что же я сказал? Опять я запамятовал? Может, ты помнишь? В общем, попроси у нее, чтобы она явила свою милость и приготовила мне стакан чая, ибо сказал некогда рабби Хона в трактате “Псахим” Вавилонского талмуда: “Все, что скажет тебе хозяин дома, исполни, кроме указания «выйди»”. Я же сформулирую так: “кроме чая”. Ну разумеется, я говорю все это в шутку. Итак, поспеши, мой дорогой, в путь и, пожалуйста, не отнимай у меня время, как это делает весь свет, не жалеющий ни минут моих, ни часов, которые мое единственное богатство. Богатство, которое утекает, как вода меж пальцев. Философ Блез Паскаль описал это жуткое, это страшное ощущение уходящего времени: течет время, капля за каплей убегают твои минуты и часы, неостановимо уходит жизнь и не вернется снова. Так что беги, мой милый, и будь осторожен, не споткнись.
По прибытии в 1919 году в Иерусалим дядя Иосеф поначалу исполнял обязанности секретаря Комитета по ивриту. А затем занял должность профессора ивритской литературы в Еврейском университете, который открылся в 1925 году. Он ждал и надеялся, что ему дадут кафедру истории еврейского народа или, в крайнем случае, он будет преподавать историю эпохи Второго Храма [29], но (как он сам вспоминал об этом):
– Радетели университета с высоты своего германского происхождения пренебрегли мною, как пренебрегли они национальной идеей, как пренебрегли они всем, что не удостаивалось оваций иных народов и ассимиляторов всех мастей, ненавистников Сиона… И отправили меня в изгнание – преподавать ивритскую литературу, подальше от той печи, где обжигают души молодых, подальше от того поля, где я мог бы посеять в этих душах зерна любви к нашему народу и его героическому прошлому периода восстаний против римского ига.
На кафедре ивритской литературы дядя Иосеф чувствовал себя, по его словам, как Наполеон на острове Эльба. Поскольку не дали ему возможности двинуть вперед весь Европейский континент, он пока что поставил перед собой другую задачу: на своем маленьком островке, на своем островке изгнания внедрить новые прогрессивные порядки. Только спустя примерно двадцать пять лет была создана кафедра по изучению истории эпохи Второго Храма, и дядя Иосеф возглавил ее, не перестав быть заведующим кафедрой ивритской литературы.
Иногда он указывал на два бронзовых бюста, стоявших на этажерке в гостиной: Бетховен – с развевающимися волосами, полный презрения и вдохновения, и Жаботинский – во всем великолепии военного мундира, с решительно стиснутыми губами. И говорил, обращаясь к своим гостям:
– Дух индивидуума подобен духу всей нации – оба стремятся к заоблачным высям и оба рухнут, если будет утрачен идеал.
Как-то в субботу один из гостей, Барух Крупник, он же Барух Кару, рассказал о том, как Жаботинский, сочиняя гимн сионистской молодежной организации “Бейтар”, не мог подобрать ивритской рифмы к слову гез (род, раса), поэтому он временно вписал русское слово “железо”. Строка эта должна была бы прозвучать так: “Кровью и железом восстанет род…” Но тут-то и появляется Барух Крупник собственной персоной и предлагает заменить слово “железо” на еза (пот). Теперь род восставал “в крови и поту”. Но я с какой-то настырной радостью ниспровергателя, бывало, декламировал перед родителями, чтобы позлить их, свой вариант, в нем сохранялось слово “железо”, а вот геза я произносил как “гжезо”.
И отец говорил мне:
– Ну в самом деле… Ведь есть же вещи, над которыми просто не шутят.
А мама возражала:
– Я как раз думаю, что таких вещей нет.
Дядя Иосеф, подобно Зеэву Жаботинскому, был просвещенным либералом-националистом в стиле девятнадцатого века, приверженцем интеллигентности, романтизма, “весны народов”. Его любимыми выражениями всегда оставались “плоть от плоти, кровь от крови нашей”, “всечеловеческие и национальные”, “идеал”, “в свои лучшие годы я сражался”, “не отступим”, “немногие против многочисленных”, “одиночки, опередившие время”, “будущие поколения” и “до моего последнего вздоха”.
В 1929 году он вынужден был бежать из своего дома в иерусалимском квартале Тальпиот, захваченного арабскими погромщиками. Дом его, как и дом его соседа Ш. И. Агнона, был разграблен и подожжен, библиотеки обоих писателей сильно пострадали.