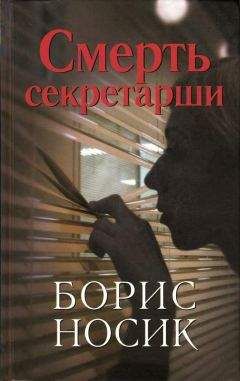Свет в конце аллеи - Носик Борис Михайлович
В общем, напились они оба, а вспомнить — и не так плох был разговор, но и без толку тоже, без решения, но главный что ни на есть Сашин прокол получился со стихами, потому что держал их специально до семинара, чтобы показать тому-другому, а может, и прочитать на группе, но как-то, еще в самый первый вечер, показал вполпьяна Ли-чаеву, который был у них всегда такой серьезный парень, и Личаев (теперь уже не студент-мальчишка, а большой какой-то там редактор в большом комитете) сказал Саше очень тихо и серьезно, но с вызовом, что стихи его бесспорно талантливые, однако вредные для него, то есть есть вредные прежде всего для Саши, потому что стихи пишутся для народа, для читателя — тут ведь ты не станешь спорить, — а, вставая на путь создания таких стихов, Саша как бы сознательно отгораживает свое творчество от читающих масс (ведь у него нет, наверно, иллюзии на тот счет, что стихи эти никто не напечатает, есть или нет?). Так вот, пускай лучше не будет, потому что насколько он, Личаев, знает обстановку, а ему уж как-нибудь виднее, то возможности такой не предвидится на все обозримое будущее, а может, и дальше, а потому путь этот Сашин губительный для творчества и нереальный — раз это не может печататься, то что это, фольклор? Может быть, но только не литература, само ведь слово «литера» что значит? — так вот к наборщику стихи эти не попадут, это ясно, а Сашу они ориентируют на ложный путь, он уж не говорит, Личаев, о том, что это все к тому же очень спорно по части идейной, нет, что и говорить, стихи, конечно, искренние, интересные по форме и мысли, но мы же должны выверять свои порывы интересами высшей правды, то есть интересами нашей истины, нашей цели, а с точки зрения этой правды и задач всей литературы, всей страны это все довольно-таки в стороне от задач и может только подорвать наши силы в тот напряженный момент, когда и снизу, и сверху, и слева… Тут уж и вовсе запахло жареным, так что Личаев спохватился, потому что ведь перед ним не кто-нибудь сидел в его приемной на Качалова, кого он распекал, а свой же брат, Сашка-Неваляшка, дал почитать по дружбе стишата, он встал, Личаев, обнял Сашу по-братски, сказал, что он вообще-то рад, он всей душой и давно удивляется, отчего он, Сашка, зарылся там у себя где-то в Тьмутаракани, никогда даже в Цэдээле не появится, не выпьет одну-другую с братвой, может, надо чего с печатанием помочь, книгу толкнуть побыстрее, так он скажет свое веское слово, Личаев, и письмо направит куда надо за подписью всего синклита — ну, не эти, конечно, шалости пера (так и сказал, подлец), а другое, написанное с ответственностью перед собой, перед временем, перед страной, перед редакторами…
После такой отповеди (ничего не скажешь, выбрал себе слушателя, разъебай!) Саша больше никому стихи не показывал, тем более уже ясно стало, что стихи здесь вообще никому больше не интересны. Саша бродил без цели по коврам унылого Дома, по аллеям, по берегу реки, забредал на кладбище, где яростный фельетонист центральной газеты лежал бок о бок (таково было его яростное предсмертное желание) со скорбным Пастернаком («Простимся, время безвременщины… и творчество, и чудотворство…»), а чуть дальше, почти впритирку к ним обоим, шли ровными серыми рядами старые большевики из соседнего Дома партийцев.
Во время одной из своих долгих и зябких прогулок Саша познакомился с очень красивой Пожилой Дамой. Она остановилась в беспомощности на одном леденистом повороте, не решалась ни вернуться, ни преодолеть расскольженное пространство, а Саша подоспел, подал ей руку, помог перейти, и дорогой они разговорились. Потом он еще несколько раз заходил за ней на дачу и «выводил на прогулку», как она сама выразилась, а она много рассказывала ему о довоенной и послевоенной жизни этих красивых, мрачноватых дач, возникших здесь по почину все того же великого пролетарского затейника, узника Рябушинского особняка, которого эта дама хорошо знала. Впрочем, она знала почти всех писателей, потому что и первый ее муж-еврей и второй — русский были знаменитые советские писатели, оба так или иначе покинули эту юдоль печали, оставив ее все еще красивой, но сильно уже в годах, переполненной воспоминаниями, которые никто бы, наверное, не слушал сейчас с такой жадностью, как Саша, ибо каждое из них каким-то образом касалось и задевало его сейчас. Жизнь этих деревянных дворцов представала в ее рассказах полной мирских радостей и страхов, вернее, страх всегда парил над их радостью и довольством, никогда не давал о себе забыть, напоминая то смутными угрозами, то непрошеными визитами, то гибелью близких, то опалой неосторожных, — краснолицые люди с улыбкой входили в любой дом без приглашения, присутствуя на дружеских вечеринках, на поэтических сборищах, на обедах, сидели за столом, завораживая литературных кроликов ненавязчивым взглядом удава.
Второй муж Пожилой Дамы как бывший боец и партизан был еще с двадцатых годов в большом порядке — всегда оставался в фаворе, возглавлял всяческие организации и беспрепятственно ездил за границу. Его творчество, все эти рассказы и драмы, вышедшие еще в двадцатых, никогда не занимали Сашу, но вот однажды, собираясь с Сашей на прогулку, Пожилая Дама повела рукой вокруг, указывая на аккуратно разложенные папки:
— Еще надо работать сегодня, разбирать. Это его произведения. Неизданные.
— Как? — изумился Саша. — Он что — писал и не мог издать. Когда же?
— После тридцать пятого. Почти ничего.
— И продолжал писать?
— Каждый день. Еще двадцать пять лет.
— Писал и не издавал?
— Нет, не только писал, он вел большую общественную работу.
— Однако он писал без надежды издать?
Красивая Пожилая Дама пожала плечами. Она не хотела видеть в Нем неудачника. Он делал все, что мог, успел написать все, что мог, и прожил как порядочный человек. Он издал вещи, которых он не стыдился (впрочем, не всех он не стыдился). «Не стыдился» — этот сомнительный комплимент должен был остаться в памяти потомков свидетельством блистательной, почти что героической жизни…
Этот случайный разговор потряс Сашу. Он внимательно вглядывался теперь в пожилых писателей, ковылявших по вестибюлю, игравших под лестницей в шахматы и в нарды, часами говоривших с Москвой по телефону, с громогласной гордостью, на публику, упоминая о корректурах, о Литфонде, о валокордине. Что они знали, что они пережили, эти люди, что скрывали и чего могли «не стыдиться»?
Саша стал расспрашивать об этих людях у тех, кто был поразговорчивей, у своих, у Пожилой Дамы. Это были странные, жалкие и печальные люди. Один из них писал какие-то славильные гимны, потом отсидел срок, а выйдя, продолжал славословленья. Он, как дитя, показывал всем крошечный японский диктофон, свою новую дорогую игрушку — может, в безобидности этого материального предмета он видел какое-то оправдание тому, что он делал, или, точнее, что с ним происходило. А другой гордился тем, что он все деньги тратил на продажных женщин, — он мог сказать что угодно и написать что угодно, но зато потом он швырял эти нечистые деньги на корыстных женщин и оставался ниш, что словно искупало его торговлю своим даром. Был еще один, о котором было известно, что в тяжкую пору он украл чей-то роман, издал его и с той поры не написал ни слова — просто жил как писатель. Было еще несколько таких, кто разменялись на пустяки, но Саша осознал в один горький момент, что все они начинали как гении, что у них были те же претензии, что у него, но они так же, как он, не могли сделать невозможного, такого, чего еще никто не делал, и они стали делать то же, что делают все, чего ждут от них издатели и редакторы…
С мазохической пристальностью Саша наблюдал теперь за жалкими разговорами и ужимками этих людей. Однажды он указал на них Лёхе, с которым когда-то очень дружил в общежитии.
— Ну и что? Они свое пожили, — сказал Леха беспечно. — При Сталине, кстати, легче было — точно было известно чего, куда. А ты, между прочим, посмотри на них внимательно, на этих писателей, — одни евреи… Во всяком случае, много…