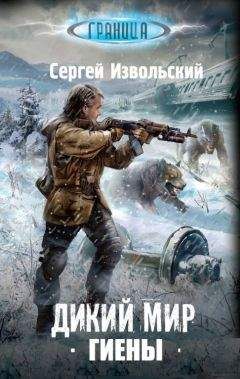Елена Катишонок - Против часовой стрелки
Они шли домой, на Реформатскую.
— Не думай об этом, — уговаривал Коля, — это шутка, недобрая шутка. Ты ведь сама слукавила, — зачем назвала меня братом? — вот она и решила тебя проучить.
— Да как же она знать могла, брат ты мне или нет? — воскликнула Ирочка.
Вместо ответа Коля подвел ее к витрине модного магазина.
— Разве мы похожи на брата и сестру?
Оба внимательно и серьезно рассматривали свое отражение, а из витрины на них с интересом смотрел манекен, хоть и одетый по новейшей европейской моде, но совсем не кичившийся этим. Кто знает, не скрывалось ли за его любезной улыбкой желание выскочить из постылой витрины, пробив бесчувственным гипсовым кулаком стекло, расправить плечи на тротуаре, поправить галстук и отправиться следом за этой парой, разминая на ходу непослушные затекшие ноги! Купить у цветочницы на углу фиалку и вставить в петлицу, без сожаления выкинув оттуда бутафорскую дрянь. Или подмигнуть хорошенькой барышне, и, если та улыбнется в ответ или с мнимым презрением наморщит пудреный носик, подарить ей эту фиалку — и воздушный поцелуй, раз так все хорошо складывается. А потом догнать тех и идти следом: вдруг удастся разгадать их секрет? Если они заглянут в кафе, тоже войти и присесть за соседний столик. Прислушаться, о чем они говорят, — да ничего особенного, и говорят-то немного, но зато барышня больше не хмурится. Она еще не улыбается, но улыбка совсем близко, в уголках маленького рта, а мужчина бережно накрывает ее сжатые руки своей ладонью. Однако как ни силился манекен разгадать тайну этих двоих, ничего не получалось. Виной ли тому безмятежная гладкость лба из папье-маше, который и напрячь-то усилием мысли невозможно, или его кукольная бесполость, замаскированная модным мужским костюмом, а скорее всего то, что в пустоте гипсовой груди не стучал маленький будильник, то замирающий, то громко-громко колотящийся от любви. А может, пересилило глупое манекенское тщеславие, кто знает? Но стекло, слава Богу, осталось целым, никто не выпрыгивал на тротуар и не бежал нарядным Големом вслед влюбленным, а в витрине все так же стоял манекен с поднятой в прощальном жесте рукой.
…Со времен дельфийского оракула любое гадание — дело уклончивое и темное. Предсказатели избегают точных формулировок, предпочитая намеки и смутные угрозы, которые непременно осуществятся, коли будут нарушены какие-то ни с чем не сообразные условия. Приятным исключением выступает кудесник, любимец богов, по странной случайности, то есть именно волею судеб, повстречавшийся вещему Олегу. На прямой вопрос: «От чего мне умереть?» князь получил конкретный ответ: «Коня любишь и ездишь на нем — от него тебе и умереть!» После этого сюжет движется к неумолимому концу. Князь в муках испускает дух от… змеиного яда. Змея могла ужалить где угодно: в чистом поле, при переходе через трясину, в лесной чаще, — но это происходит на песчаном берегу Днепра, где лежало все, что осталось от коня: «Его кости голые и череп голый», как гласит летопись. Представляется сомнительным, что по истечении пяти лет можно найти могилу коня, хоть бы и княжеского; однако отчего же нет, если в окрестностях уже упомянутых Дельф обозначено место рождения того свирепого вепря, который оставил рубец на ноге Одиссея — для того, чтобы старая кормилица смогла узнать его после многолетнего странствия.
Что недосказал князю мудрый старец? Или — так будет точнее — что услышал в его словах Олег? Что любимый конь падет в бою, например, и уже увидел мысленным взором, как тот заваливается набок, так что поле битвы резко кренится в сторону, и кончик своего сапога, намертво схваченный стременем, как капканом, а над собой — желтый блин хазарской рожи, распяленной счастливой ненавистью. Или увидел любимого коня взбесившимся и вставшим на дыбы: удила в пене, белки налиты кровью — и себя летящим в овраг с песчаной кручи, с ненужным мечом в руке? Так или иначе, но осторожный князь меняет коня, а через пять лет стоит над его костями и смеется над лживым предсказанием, безумным гадальщиком и над собственной доверчивостью; так, смеясь, наступает ногой на продолговатый череп. Попирает ногой прах верного друга. И тут же следует возмездие: «И виникнувши змиа изо лба, иуклюну в ногу. И с того разболеся и умре. И плакашася людие все плачем великим, и несоша и погребоша его на горе… есть же могила его и до сего дни… И бысть всех лет княжения его 33…»
Но разве конь виноват в смерти Олега? Да не более чем тот ковыль, что вырос на кургане, где покоились его останки! Это как смерть в яйце, то яйцо в утке, утка в колоде, а колода по синему морю плавает, — только меньше звеньев в цепочке. И если бы киевский князь удержал тогда кудесника за ветхий плащ и потребовал — чего? Подробностей? Объяснений? Но знал ли их сам любимец богов?.. Что уж говорить о дельфийском оракуле с его темными вещаниями.
Та, в клетчатой шали, и вовсе что-то несуразное несла; а вот поди ж ты, все до слова запомнилось и уже одним этим раздражало.
И не только раздражало — пугало.
Невозможно было прогнать мысль, что цыганка знала, о чем говорит. Затолкать этот эпизод куда-нибудь в дальний угол сознания, где он бы тихо обесцветился и утратил остроту, постепенно стал нелепым воспоминанием, над которым можно было бы посмеяться вдвоем — и забыть совсем.
Не получалось.
Правда, Коля никогда к этому происшествию не возвращался и надеялся, должно быть, что и она забыла. И забыла бы с радостью, если бы не память о другой цыганке: о бабке.
Коля ее бабки не знал. Вернее, слышал какие-то семейные рассказы, больше смахивающие на предания, поэтому в гостях у будущей тещи слушал с вежливым интересом, но и с мысленной поправкой на фольклорную достоверность. Забавной деталью было то, что рассказывала как раз Матрена, хотя цыганка приходилась ей свекровью («Ты не думай, она крестилась, а то и звали-то ее по-басурмански»). Сам Григорий Максимович, сын легендарной цыганки, ни внешне, ни характером цыгана не напоминал, разве что черными блестящими глазами. В рассказы жены не вмешивался; молча подкручивал пышные усы, и будущему зятю казалось иногда, что этим жестом он прячет улыбку. Как-то, поймав Колин взгляд, подмигнул неожиданно и лукаво — и опять давай ус крутить. От этого почти пропала Колина обычная напряженность, которую можно было принять за высокомерие, если бы Ирочка не знала его.
Она к тому времени сняла квартиру отдельно от родителей, поближе к работе. Родители удивились, но возражать не стали, хорошо зная характер старшей дочери: смолчит, но сделает по-своему. Несмотря на это, Матрена не забывала напомнить всякий раз, когда дочка забегала в гости: комната твоя стоит, чего ж по чужим углам тереться, но без всякого обидного оттенка. Оба — и мать, и отец — были из донских казачьих семейств, где не принято было стеснять свободу дочерей и влиять на их выбор; быть может, оттого девушки-казачки и не использовали эту свободу во зло.