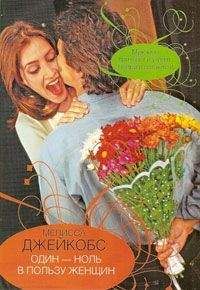Стефан Цвейг - Встречи с людьми, городами, книгами
Стремление к космическому неудержимо растет в его творении вместе с мастерством. Кажется, вот он достиг предела, но нет, он не останавливается, он продолжает кружить по спирали, все шире охватывая сферу действительности. Если его первые книги были значительны, то последняя из них, «Город», монументальна, как вечный памятник современному большому городу, этому пандемониуму всех страстей, с миллионами человеческих судеб, широчайшим потоком людских масс, трагическими контрастами нищеты и роскоши, лишений и распутства. В этом произведении художник сделал шаг от сонаты к симфонии.
Параллельно с развитием своего графического искусства Мазереель начинает овладевать и другим изобразительным средством — после формы наступает очередь цвета. Он продвигается вперед не спеша: легкомыслие чуждо этому прирожденному труженику. Шаг за шагом, колеблясь и раздумывая, выбирая окольные тропы, он подходит к живописи. Сначала это были подкрашенные рисунки, цветной карандаш, эскизы театральных костюмов; затем — акварели, в которых все еще доминировали линии и приемы графика, и лишь недавно он начал выражать свои замыслы уже не в графических формах, а в красках. И теперь с каждым годом, почти с каждым месяцем он пылко приближается к мистерии цвета. Кажется, будто он сражается с мраком, с вечной ночью за священное право глаза радоваться краскам, хотя на его первые картины еще ложится тень этого мрака, они еще придавлены тяжестью материи. Но от полотна к полотну цвет его красок становится все ярче и ярче, растворяя линии контура, и вот от его картин уже исходит та же неотразимая, убедительная сила, как и от его гравюр. Немногое в современной живописи может сравниться с его полотнами по силе и мужественности, по здоровой, почти грубой чувственности: кто может забыть эти улицы Парижа, эти сцены в порту, лес бесчисленных мачт — подлинный кусок жизни; кому не запомнятся его рыбаки, их тяжелые фигуры, полные могучей сдержанной силы, и эти женщины в кабачке, озаренные страшным светом порока? И каким бы титаническим ни казался его труд в области графики, кто знает, быть может, он был лишь ступенью на пути к новой вершине, с которой взору художника откроются еще более далекие горизонты необозримого океана жизни.
Мазереель является для меня олицетворением ни с чем не сравнимой силы — силы вселенной, олицетворением ее бесконечной жизни и зрелой, стойкой мужественности. От его гравюр веет дыханием космоса; словно стоя на бушприте корабля, вы ощущаете в них и бескрайний простор воздушного океана, и стремительное движение судна, и бодрящее действие ветра и волн, этих свободнейших стихий мира. Он доброжелателен, как все естественное, как истинный художник, как человек, которому дано одарять, вдохновлять и радовать людей. И никогда я не чувствовал так глубоко, как в его присутствии, правду слов Эмерсона: «Большая сила дарует нам счастье».
Перевод Н. Бунина
Артуро Тосканини
Кто хочет невозможного, мне мил.
Гете. Фауст, ч. II
Всякая попытка исторгнуть образ Артуро Тосканини из недолговечной стихии музыкального исполнительства и воплотить его в более устойчивой материи слова неизбежно станет чем-то большим, нежели простая биография дирижера; тот, кто захочет поведать о служении Тосканини гению музыки, о его волшебной власти над толпой, тот опишет явление морального, и прежде всего морального, порядка.
Ибо в его лице служит внутренней правде произведения искусства один из правдивейших людей нашего времени, служит с такой фанатической преданностью, с такой неумолимой строгостью и одновременно смирением, какое мы вряд ли найдем сегодня в любой другой области творчества. Без гордости, без высокомерия, без своеволия служит он высшей воле любимого им мастера, служит всеми средствами земного служения: посреднической силой жреца, благочестием верующего, требовательной строгостью учителя и неустанным рвением вечного ученика.
Этот хранитель священной праформы в музыке никогда не печется о частностях — только о целом; никогда не стремится к внешнему успеху — только к выражению внутренней правды; и потому, что он всегда и всюду, в каждое выступление вкладывает весь свой талант, всю свою неповторимую душевную и нравственную силу, оно становится событием не только для музыкального искусства, но и для всех искусств и для всех людей искусства. Здесь блестящий личный успех выходит за пределы музыки и вырастает в сверхличное торжество творческой воли над тяжестью материи — великолепное подтверждение той истины, что и в наше тревожное, неустойчивое время человек может явить чудо совершенства.
Ради этой неизмеримой задачи Тосканини долгие годы закалял свою душу, вырабатывая в себе неподражаемую и потому достойную подражания неумолимость. В искусстве — таково его нравственное величие, таков его человеческий долг — он признает только совершенное и ничего, кроме совершенного. Все остальное — вполне приемлемое, почти законченное и приблизительное — не существует для этого упрямого художника, а если и существует, то как нечто глубоко ему враждебное. Тосканини ненавидит терпимость в любом ее проявлении, в искусстве, равно как и в жизни, ненавидит снисходительную невзыскательность, дешевое самодовольство, компромиссы. Тщетно напоминать и доказывать ему, что законченное, абсолютное вообще недостижимо в подлунном мире, что даже самой сильной воле дано лишь максимально приблизиться к совершенству, доступно же оно лишь богу, а не человеку; никогда в своем прекрасном неразумии не примирится он с этой разумной истиной, ибо для него нет в искусстве ничего, кроме абсолютного, и, подобно демоническому герою Бальзака, он проводит всю свою жизнь в «поисках абсолюта». Но всякое стремление достичь недостижимого, осуществить неосуществимое становится в искусстве и в жизни неодолимой силой: плодотворно только чрезмерное, умеренное же — никогда.
Когда хочет Тосканини, должны хотеть все; когда он приказывает, все должны повиноваться. Поистине немыслимо — и любой музыкант, осененный его волшебной палочкой, подтвердит это — быть в плену исходящей от него стихийной мощи и играть неточно, небрежно, лениво; что-то от его насыщенной электричеством воли непостижимыми путями вливается в каждый нерв и каждый мускул любого, будь то музыкант-исполнитель или восторженный слушатель. Как только энергия Тосканини обращается на исполняемое произведение, она приобретает силу священного террора, силу, которая сперва парализует волю, а затем безмерно раздвигает ее границы; мощь, излучаемая им, беспредельно увеличивает обычную глубину музыкального восприятия, расширяет способности, дарования музыкантов и — я сказал бы — даже инструментов. Из каждой партитуры он извлекает самое потаенное и сокровенное, из каждого оркестранта своими требованиями и сверхтребованиями он выжимает до последней капли все его индивидуальное мастерство: он силой навязывает ему такой фанатизм, такое напряжение воли, такой подъем сил, какого тот никогда не испытывал и вряд ли испытает без Тосканини.
Подобное насилие над чужой волей не может, разумеется, протекать мирно и спокойно. Подобная отработанность неизбежно предполагает упорную, ожесточенную, фанатическую борьбу за совершенство. И к чудесам нашего мира, к грандиозным откровениям искусства созидательного и искусства исполнительского, к столь редким в жизни человека незабываемым часам принадлежит возможность воочию наблюдать и пережить вместе с Тосканини — взволнованно, напряженно, затаив дыхание, почти с испугом и с благоговением эту битву за совершенство, эту борьбу за достижение предела пределов. Обычно у поэтов, композиторов, художников, музыкантов эта борьба протекает в стенах мастерской, и только по их наброскам и черновикам можно потом в лучшем случае лишь смутно угадывать священный подвиг творчества; когда же проводит репетицию Тосканини, слышишь и видишь борение Иакова с ангелом совершенства и каждый раз это — величественное и устрашающее, как гроза, действо. Всякого, кто служит искусству в любой области его, не может не вдохновить это поучительное, несравненное зрелище, всякий изумится, тому, с какой страстью, напряжением и даже жестокостью один-единственный человек, одержимый демоном совершенства, заставляет каждый инструмент, каждого оркестранта дать все, что в его силах, как этот человек со святым долготерпением и святой нетерпеливостью заключает все приблизительное и расплывчатое в строгие рамки своего безупречного и безошибочного видения.
Ибо у Тосканини — и в этом его особенность — к пониманию произведения никогда ничего по прибавляется на репетиции. Симфония любого мастера уже давно отработана в его уме — отработана ритмически и пластически в наимельчайших оттенках задолго до того, как он подойдет к пульту; репетиция для него не процесс созидания, а лишь приближение к этому внутреннему, изумительно четкому замыслу, и когда оркестранты только приступают к творческой работе, у Тосканини она уже давно закончена. Неделю за неделей он целыми ночами — этому удивительному человеку достаточно трех часов сна в сутки — прорабатывает всю партитуру насквозь, такт за тактом, ноту за нотой, поднося листок вплотную к своим близоруким главам. Его поразительная чуткость, взвесила каждый оттенок, безграничная добросовестность, едва ли не облекла в словесную форму каждую подробность ритмического рисунка. Теперь в его редкостной, его несравненной памяти целое запечатлено так же отчетливо, как и любая отдельная деталь, теперь партитура больше не нужна ему, он может ее отбросить, словно ненужную шелуху. Как на гравюрах Рембрандта мельчайшая линия с предельной точностью и отчетливостью, с неповторимым, только ей присущим изгибом врезана в медную доску, так и в этом мозгу, самом музыкальном из всех существующих, нерушимо, такт за тактом, врезано все произведение, когда Тосканини раскрывает партитуру на первой репетиции. Со сверхъестественной ясностью знает он, чего хочет: теперь его задача — заставить оркестрантов беспрекословно подчиниться его воле, дабы претворить еще не осуществленный прообраз, законченный замысел в оркестровое исполнение, музыкальную идею — в реальные звуки и сделать законом для всего оркестра то недостижимое совершенство, которое он один слышит внутренним слухом. Титанический труд, предприятие почти невыполнимое — различнейшие натуры и таланты должны с фотографической, с фонографической точностью прочувствовать и воспроизвести гениальный замысел одного-единственного человека! Но именно этот труд — хотя уже тысячи раз столь блестяще выполненный — составляет для Тоскании всю его радость и муку; и что может быть поучительнее, достопамятнее для всех, кто чтит в высших формах искусства выражение этического начала, чем видеть, как Тосканини, неустанно сверяясь со своим внутренним видением, сводит многообразие к единству, как он напряжением всех сил придает неясным еще контурам законченную форму. Ибо лишь в эти часы понимаешь творчество Тосканини не только как явление искусства, но и как нравственный подвиг. Публичные концерты показывают нам художника, величайшего мастера и знатока своего дела, виртуоза, предводителя, триумфатора, они знаменуют победоносное вступление в покоренное царство совершенного искусства. На репетициях же становишься свидетелем решающей схватки за совершенство, здесь — и только здесь — видишь скрытый подлинный трагический образ борющегося человека, здесь — и только здесь — постигаешь в Тосканини ярость и мужество страстного борца; словно поля битвы, эти репетиции полны сумятицей побед и поражений, пронизаны лихорадкой удач и неудач, здесь — и только здесь — полностью обнажается до самых глубин душа Тосканини-человека.