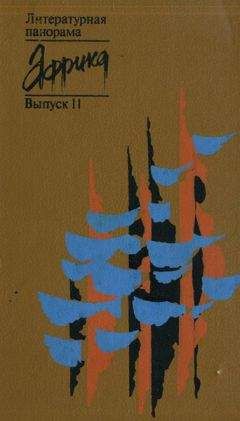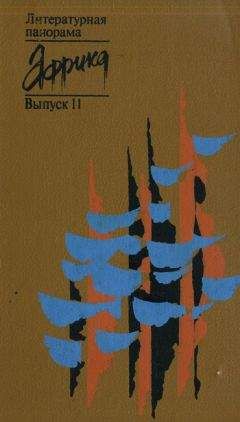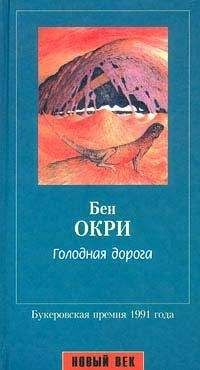Владимир Крупин - Во всю ивановскую (сборник рассказов)
На следующей странице был «Разговор берега с речкой». «Скажи, любимая, когда это случилось, что мы друг друга перестали понимать? Жизнь новая ведь от меня в тебе родилась, и называться стала ты бесценным словом — мать. С тобою мы, как речка с берегом, были дружны, делили вместе радость и невзгоды. А помнишь, как на ранней зорьке ветерки свежи? Ну почему ты испугалась непогоды?»
Я листал тетрадку, откидываясь к корням сосны и замирая под шум ветра, ибо этот шум ветра в ветвях сосен перекрыл рокотание моря. Рокотание, подумал я, рокотание — от слова «рок», от определенности судеб. Но если судьбы определены, зачем тогда, например, цари до новой эры волокли к подножию всяких дельфийских оракулов тонны золота, чтобы узнать то, что определено?
«Воспоминание», — читал я. «Как жили мы прекрасно в доме бабки, отец нас из Москвы от бомб привез. Я слышу песнь прощальную и звук тальянки, и много в нашем доме было слез. В ноябрьский день с небесной, снежной солью в наш тихий дом с войны пришла беда: вновь в доме плач с щемящей сердце болью: отец пропал без вести, без следа» но
А в декабре слегла и мама. От всех волнений и тревог слегла. Сказала: «Деточки, я скоро встану». Но все ж подняться так и не смогла… Забывшись в ворохе воспоминаний и сидя у обмытого дождем окна, я не заметил солнечных сияний, неужто вместо осени весна?»
Потом я еще на выбор перебрал листки: «Тебя я полюбил по-настоящему и страстно, отдавшись в руки полностью судьбе. Ты мне была иль притворилась Афродитою прекрасной, я без сомнения решил жениться на тебе. Людмила, красота с годами увядает. Растенья расцветают каждою весной. На нашу жизнь тень ночи набегает, ужель под занавес расстанемся с тобой?»
* * *Первые утренние люди потянулись, гуляя, по дороге вдоль берега. Забегали спортсмены. Решив пройти до следующей остановки по берегу, пошел и я. В море меж тем происходили перемещения судов — одни увеличивались, другие исчезали. Два парусника — белый и красный — шли, выражаясь морским термином, галсами. Круглые, похожие на купола парашютов паруса то надувались, то опадали при повороте.
Скоро я озяб от ветра и поднялся повыше. И прекрасно сделал — меж сосен была твердая тропинка, сосны же, заслоняя ветер, не мешали слушать море.
В голове мелькали отрывки из событий последних недель: вновь Грузия вспомнилась, и этот Гриша, и досада на него, что бичует, а не едет на родину. «Умеют жить, — восхищенно говорил он, — едят и пьют человек по десять, а платит один».
Еще старуха эта в тифлисских банях помнилась, еще бюст Пушкина заплаканный, под дождем, еще грузинка, такая красивая, что даже грузинки на нее оглядывались. Еще цветы в подвальном магазинчике, открытые ставни, а цветы такие огромные, красные, будто костры вырывались из-под земли. Еще около статуи Матери Грузии старуха подметала дорожки, старик утрамбовывал листья в мешок, они сели отдыхать и вдруг запели. «Да, — смеялся я в Сибири, — я-то думал, что грузины только в кино поют». Еще помнил внезапный туман, который в пять минут закрыл окрестность и пресек маршрут запланированной поездки. Наши сопровождающие куда-то исчезли, вернулись через три минуты — люди с фонарями показали дорогу, мы заехали во двор мастерских, нас провели в красный уголок, в котором уже ждали собравшиеся. Мы выступали с переводчиком, так он переводил иль не так, но помню, мне сильно хлопали, когда я, говоря о грузинском характере, вспомнил сильнейшее впечатление детства от фильма о Георгии Саакадзе, а особенно о том, что из всего нашего армейского пополнения первым на гауптвахту попал грузин сразу за кулисами дымил мангал, пробовали на звук зурну, и, видимо, не специально, но каждый из тех, невидимых, проходя, оживлял барабан сухим, рассыпчатым щелчком кисти свободной руки. Было застолье, дорогое потому, что было не запланированным, внезапным для хозяев этих маленьких ремонтных мастерских. До этого были запланированные, были и такие, где, что греха таить, — все равно ведь все тайное будет явным, — были и такие, где-аллаверды! — по полчаса кричали в глаза друг другу: «Ираклий, ты гениальный поэт!» — «Нет, Акакий, ты ошибся, это ты гениальный» и так далее, а в перерыве, когда менялись блюда и оркестр, кто-то из говорящих тост мог подойти и сказать интимно: он ужасный человек, он позаимствовал у меня четыре строки. Было, было такое, грузинские собратья. «А разве не бывает у вас?» — спросите вы. О, и еще как!
Теперь я понимаю, это совсем не случайное, а подаренное свыше, как опустившийся туман, застолье не забудется. До него из любопытства прошел я по мастерским, так живо вдруг освежившим еще те мои давнишние мастерские ремонта «Сельхозтехники». Даже вдруг, как ископаемое, предстал передо мною притирочный станок, вовсе не застекленный, а работающий, и парнишка при нем, проверяющий фаску на клапанах и уж конечно злящийся на закаленные выхлопные клапаны, которые притереть не просто. И этот туман специально, конечно, заставил вспомнить наши вятские мастерские, ведь туманы и там бывали, то есть, выйдя из мастерских из этих, при свете дня можно было увидеть горы, далекий монастырь Джвари без креста, хотя Джвари в переводе как раз означает «крест», а от ворот наших мастерских открывались дали, неподвластные даже вооруженным глазам.
И в этом застолье были — аллаверды, аллаверды к тебе, дорогой! — бесконечные тосты, но было такое ощущение сброшенной сбруи, раскованности, когда не боишься что-то ляпнуть невпопад, не боишься кого-то обидеть, потому что этот кто-то знает, что ты любишь и его, и его близких, и его родину, эти горы, и ничуть не завидуешь ни обилию стола, ни достатку, а только тому, что вот вдруг встали красивые крепкие мужчины, обнялись за плечи и так повели песню, так вздымая и так сурово выпевая непонятные угрожающие и необъяснимо печальные при этом слова, что… да что говорить!
И полюбивший меня шафер Заур, наклоняясь и подливая естественное вино, спрашивал: «Ты зачем в Мцхета писал надпись с нагробной плиты, зачем?» — «Заур, как я мог не записать — профессия. Я и наизусть запомнил, вот слушай: «Горе, горе тебе, которая была молодая. И столь добрая и красивая была, что никто не был ей подобен по красоте. И умерла на 21 м году». Заур, хорошая у тебя жена?» — «Вах, смешной, разве жена бывает какая-то, она бывает жена». Засмеялись. «Но вот эта надпись, она давняя, зачем еще тогда, давно-давно, надо было писать по-русски?» — «Смешной! Ты же приехал, расскажешь своим». — «Заур, — говорю я, — а ведь я и другое расскажу, помнишь еще плиту, ты же всех гостей сюда возишь, там плита, на ней надпись: «Не трогайте, не тревожьте мой прах», а ведь эту плиту уже перетащили?»
Заур сидел и рассказывал, как он перегонял машину, получив в Москве, на заводе имени Лихачева, рассказывал с обидой: «Дорогу спрашиваю, а он, ваш, говорит: я в яме сидел, дороги не видел, они все вверху ехали».
То-то этот переводчик, да и Заур тоже, подивились, когда Гриша пришел меня провожать. Но он был в новых ботинках и рубахе, так что вполне мог показаться им бедным родственником.
* * *Вот я шел по прибалтийским дюнам и думал: зря или не зря я сюда приезжал? А в Грузию? Сделано ли дело, ради которого ездил? Почему-то в отношении поездки в Сибирь я так себя не спрашивал. Там было хорошо и без этого совещания молодых писателей. Кто я такой, в конце концов, чтобы руководить молодыми литераторами? Разве не есть любая биография состоявшегося писателя опровержение нравоучений всякого рода учителей и правил? Разве не в наше время уровень образования повысился настолько, что практически каждый десятиклассник может писать грамотно? Но это грамота, а не литература.
Скамья вдруг предстала, совершенно новенькая, не изрезанная ни именами, ни афоризмами, видимо, здесь не при-пято было обнаруживать свое присутствие или делиться открытиями. Сел. Пригрелся в первых солнечных лучах. Пронеслись в сторону моря белые голуби.
Солнце медлило, но утро стало теплеть, я расстегнул куртку. Все еще держа пачку стихов, я полез положить их в карман и наткнулся, конечно, на другие бумаги. Я достал пачку своих отрывков из обрывков, которые в угоду профессия все-таки копились. Стал сортировать их. Конечно, все они в общем-то могли пригодиться — мелькали в записках слова, фразы, разговоры, которые воскрешали в памяти человека, встречу или были как заготовки будущих работ, они показывали намеками то состояние, которое я переживал в этот период тут, в идеале, предполагалось быть тому, что узналось или надумалось только мною, и что я не имел права удерживать в себе и у себя, и что должен был, как член общежития, рассказать всем.
Конечно, надо писать. Хотя взгляд на книжные полки не может не отрезвить, там уже кое-что накопилось за времена письменности, Державин любил рассказывать, как Павел, дав ему должность при дворе, подвел к дворцовой библиотеке и якобы сказал: «Гавриил Романович, ведь столько уже написано, а все пишут и пишут». Но время движется, и кто-то его должен выражать, кто-то должен перед грядущими временами давать отчет и за наше. И этот кто-то непонятно кем избирается. И этот комплекс, а именно — избран ли я, не перестают меня мучить.