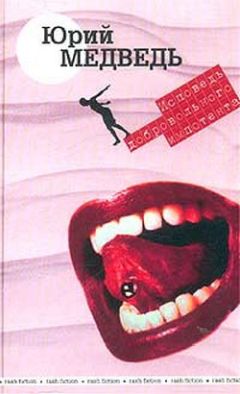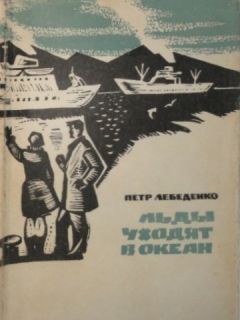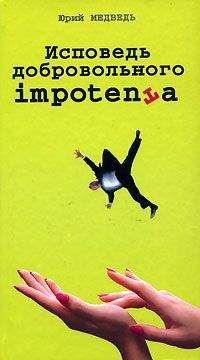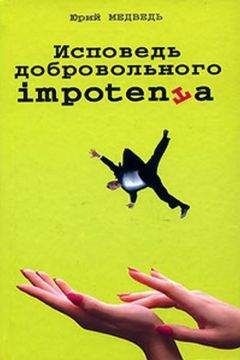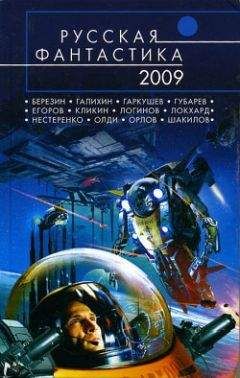Юрий Медведь - Исповедь добровольного импотента
Потом мы бежали. Уходили от контакта с ОМОНом. Мои ступни больно ударялись о мокрый асфальт, горечь подымалась по пищеводу к горлу. Меня стошнило, и мы оказались в просторной парадной у потухшего много лет назад камина.
Камиль прикурил любовно забитый косячок. От каждого прикосновения наших губ к мундштуку, огонек в папиросе оживал и, потрескивая, набрасывался на зелено-коричневое месиво. После пары затяжек горячая лава закапала у меня с век и медленно потекла в ноги. Я украдкой глянул на Камиля и хитро засмеялся. У него из-под хищно вздернутых ноздрей торчали две черные волосинки. Одна торчала прямо, как бивень носорога, другая действовала иначе — колесилась. Мне представилось, как Камиль выдирает их, чтобы нравиться девушкам и отчаянно чихает при этом. Он стал мне чуточку роднее. Я соображал, как бы ему сказать об этом, но…
В подъезд вошли двое — Он и Она.
Он был в черном плаще — широкий крой скрывал его чахлое тело. Широкополая шляпа такого же цвета придавала росту исполинские мерки, а рыжая растительность на лице затушевывала его черты. Парень был вооружен гитарой.
Она была без тормозов. Гибкая и упругая, как пружина. Выскальзывающая и манящая, сводящая с ума своей доступностью.
У камина образовался квартет. Опять затрещал огонек. Лава выжгла во мне все внутренности, испепелила мозги со всем содержимым и я стал невесомым.
— Эту песню я посвящаю тебе, Александра, — объявил Камиль и запел голосом Розенбаума.
Александра что-то сбросила с себя и все тело привела в движение. О, это был танец будущего! Танец без начала и конца — вечный триумф искусства совращения!
— О, Мадонна, зачни! — вопил я, размахивая руками и ногами. — Ибо, протухаем в щелях наших поганых!
Соблазнительница обвилась вокруг меня пульсирующей жилой и горячая струйка шепота забилась в мое ухо:
— Парень, а ты уже гонишь!
Да я гнал! Хлестал лошадей, шел на всех парусах, давил на газ. Я спешил к своему приюту, и скоро мы с Сашенькой оказались прямо под звездами. Город ворчал и барахтался где-то глубоко внизу под могучими крышами домов.
Катаясь по мокрому рубироиду, мы со стонами сдирали друг с друга наши тряпки. И еще не успела упасть с неба первая звезда, как Сашенька, оголившись, превратилась… в щупленького паренька!
О, это была великолепная и очень тонко подстроенная насмешка — убийственная фраза изощреннейшей иронии, посланная в мой адрес из-за кулис. Но кем? И с какой целью? На мгновение мне показалось, что среди бархатных складок опускающегося занавеса я уловил физиономию какого-то фигляра весьма способного на подобное. Он был очень похож на меня, только морда его скрывалась под ярким гримом, а на затылке топорщился дурацкий колпак. Я было хотел ухватить его за штрипку, но занавес рухнул. — Представление было закончено.
Я отвалился и прыснул, меня сотрясал смех. Саша подступился, чтобы успокоить — мол, это дело привычки, потому как разница небольшая. Он гладил мою убогую грудь, теребил соски, потом я почувствовал мягкое влажно-прохладное прикосновение его губ. Это мерзкое животное заметалось по моему животу и вдруг впилось в член. Смех мой уже перерос в хохот и все усиливался. Сквозь него уже невозможно было дышать. Я ощущал, как каменеют мои вены. Хохот обратился в грохот, сверкнула молния, и я отключился.
9
Очнулся я от холода. Приоткрыл глаза — высокая трава. На траве роса. Мокро. Приподнялся — вокруг поле с налипшим на него туманом. Я попытался задать себе вопрос: Где я? Но тут же отказался от этой затеи. Слишком густой туман был на всех уровнях.
Для проверки физических сил, я встал на четвереньки и принялся лакать росу. Влага немного отрезвила. И напрасно. Во мне стали пробуждаться воспоминания. Эти чудища, уроды и уродцы, карлики и карлицы обступали меня со всех сторон. Они дразнили меня и плевались своей тухлой слюной. Я упал в траву и заплакал.
Вдруг из тумановой завесы донесся слабый крик:
«Га-га… Га-га…»
Полчище гадов мгновенно испарилось.
Я насторожился, вытянул шею и замер.
Ждать!
Крик приближался, теперь я уже мог распознать его основную тональность. Это был клич. В неброском, суховатом, даже слегка скрипучем тембре чувствовалось достоинство и профессиональная уверенность. В четком ритме трехтактного размера пульсировала жесткая воля и бесприкословная требовательность.
«Га-га… Га-га… Га-га…»
Туман как-будто стал еще непроглядней. Мелкой дрожью реагировало мое тело на прикосновения его липкой и холодной слизи. Но в душе у меня прояснялось.
«Га-га… Га-га…» — трубил в вышине невидимый трибун.
И с каждым его выкриком я мужал и возносился над плесневелым замком душевшой сырости. Я распрямился и поднялся во весь рост. Грудь моя вздыбилась и затведела, словно облаченная в кальчугу. Вялые икры встрепенулись и забугрились. Обвислые щеки впали и зазияли тенями самоотрешенности. Глаза извергали феерверк решимости.
Я был готов.
Наконец, из клубящегося мраморного тумана вырвалась троица белых лебедей. На бреющем они просвистели над моей головой. Их мощные тела, обладающие совершенной формулой аэродинамики, как сверхострые резцы рассекали монолит тумана — великолепный клин грациозно двигались к заветной цели.
«Га-га… Га-га… Га-га…» — воодушевлял вожак.
«Спасен! — услышал я свой голос. — За ними! Будь как они!»
Шумным вздохом я наполнил свои легкие сырой мутью и припустился за удаляющейся троицей.
Очень скоро лебединый клин пропал с поля зрения, но я легко и воодушевленно двигался на гениальное:
«Га-га… Га-га… Га-га…»
Я ни о чем не думал, и ни о чем не мечтал. Я просто держал ушами магический пеленг и бойко работал ногами.
Не помню сколько времени продолжалась эта упоительная и завораживающая рысь, мощная в своей непоколебимой вере, блистательная в неиссякаемой свободе. Только, неожиданно, я споткнулся и на полном ходу врезался в землю. Вскочил — мгновенно, порывисто, еще стремясь, еще веря. Но острая боль, хищно сверкнувшая в левой ступне — подобно клыкам саблезубого тигра — ослепила меня и, повторно, швырнула ниц. Я взвыл.
Властный клич вожака с каждым мгновением слабел, иссякал, таял, поглощаемый ненасытной плотью тумана. Я корчился на острых гранях холодного гравия, созерцая расцветающий во мне яростный бутон боли, и не в силах был подняться. Вскоре путеводный глас окончательно сгинул в невидимом вдалеке. Вокруг заструилась тишина, пугливо огибая мои стенания.
По прошествии неучтенного времени, туман оторвался от земли и начал исчезать, магическим образом вытягивая из меня боль. Вокруг стали проступали силуэты действительности. Сначала, без видимой взаимосвязи, выглядывали они из небытия, лишь удивляя своей причудливой незавершенностью. Но постепенно, разодранные их жилы сцеплялись меж собой, формируя коротенькие фрагменты, которые имели уже самостоятельную жизнь:
— железобетонный столб с обвислыми усищами проводов,
— остов «москвиченка», обезображенный огнем,
— железные ворота с двумя проржавевшими звездами…
Еще мгновение, и все новоявленные существа выстроились в единый пейзаж.
Без сомнения, предо мной распростерлось родное трамвайное кольцо, а сам я распластался на его железнодорожном полотне. Ну, вот и все. Оставалось только незлобливо усмехнуться — круг замкнулся.
Одиссей всегда возвращается
Одно время я долго наблюдал за женщинами, которые спариваются с военными. Зачем я занимался этим? Ну, честно говоря, мне интересны все женщины. С некоторыми я успешно спаривался, а вот со многими мне это не удавалось. И каждый раз, когда мне не везло, я огорчался и задумывался: а почему, собственно? А задумавшись, я уже вообще ни с кем не мог спариваться. Меня тянуло наблюдать, анализировать и в конце концов все же победить там, где мне, откровенно говоря, не дано.
А вот почему я заговорил о женщинах, ориентированных именно на военных, так это потому, что тут особый случай.
Во-первых, это самая многочисленная группа, а во-вторых, с ними мне не повезло окончательно, то есть я облажался по-крупному, хотя действовал дерзко и решительно, поначалу. Но позвольте все по порядку, потому что в каждом конкретном случае есть специфические тонкости, которые и составляют индивидуальную прелесть всякой истории.
Случилось так, что я поселился по соседству с военным, к тому же чужестранным, то ли боливийцем, а может и пуэрториканцем. Впрочем, военный — он и в Африке военный.
Сам-то я хоть и приведен к присяге, но не профессионал и по части женщин, предпочитающих мужчин в портупеях, обделен основательнейшим образом, поэтому после первой же ночи, проведенной у звукопроницаемой стены, отделяющей мою келью от вертепа иноземного вертопраха, я незамедлительно занялся случкой военных в интернациональном аспекте.