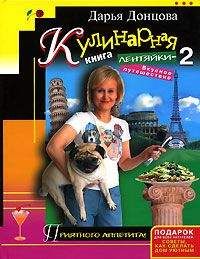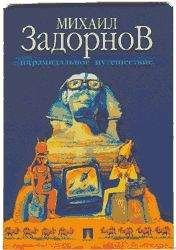Артур Япин - Сон льва
— Что ты делаешь? — спрашивает Максим.
— Играю.
А что это за игра?
— Смотреть на свет, — отвечает она и придумывает на месте: — Смотреть на свет и видеть разные картинки.
— Какие картинки?
— Не знаю. Они всегда позади меня.
— Как это позади тебя?
— Я чувствую, как они появляются. Тогда я оборачиваюсь…
— Но ты же тогда упадешь.
— Вот видишь, ты прекрасно знаешь эту игру, — говорит девочка строго.
И продолжает водить рукой у себя перед глазами. Не может остановиться. Тень скользит туда-сюда по ее лицу.
— А ты не боишься упасть?
— Конечно, боюсь.
— Но тогда зачем ты это делаешь? — Максим раздраженно хватает девочку за руку.
Она, наконец, смотрит на него. Сердито. Вырывает руку. Со злостью. И начинает все сначала.
— Потому что мне нравится, — говорит она.
Гала, заметив, что Максим не спит, придвигается к нему в их большой кровати и берет его за руку.
— Тирули, тирула, — напевают они, пока не засыпают, — Питипо, питипа.
3— Один вздох — и красоты больше нет. Остальное — либо воспоминание, либо повторение.
Взгляд Сангалло блуждает по волосам Максима с невысказанной надеждой.
— Самое большее — один вздох, и то, если нам повезет, и мы случайно заметим прекрасное. Мгновение воодушевления заставляет тело цвести, а затем — черви знают свою работу.
В третий раз за несколько недель виконт тащит юношу показывать ему Рим. И в третий раз он дает Максиму тот же черный плащ. Он набрасывает плащ Максиму на плечи, почти не глядя, словно сам сосредоточен на множестве других мелочей: старой карте, серебряном фруктовом ножике, пакете мандаринов, чтобы в машине стоял их аромат, две хрустящих булочки с мортаделлой.[82] Кажется, все это для Сангалло гораздо важнее черного плаща.
Этот плащ — особенная вещь: блестящий, как будто из клеенки. Материал кажется грубым и жестким, как армейский, но на самом деле очень легкий и совершенно не стесняет движений, так что забываешь, что он на тебе надет. Очень изящного покроя. Благодаря ватным накладкам плечи кажутся еще шире, а бедра уже, чем в действительности. От талии вниз идут широкие полы плаща, такие длинные, что даже Максиму они доходят до икр.
— Для игры в переодевание сегодня слишком жарко, — говорит Максим резко.
Пожилой режиссер раздражает его, Максим не понимает, почему.
Когда Сангалло впервые бросил Максиму этот плащ, тот остался неловко стоять с ним в руках. Это было в начале ноября. Вполне мог пойти дождь, но только полный идиот станет одеваться как старый морской волк, когда дует всего лишь понентино.[83]
Сангалло не заметил его колебаний и даже, казалось, совсем забыл о плаще, пока не была подана машина и они не зашли в лифт.
— Надень его.
— Может быть, потом, если пойдет дождь.
— В конечном счете, человек должен попробовать все.
— К счастью, у нас еще вся жизнь впереди.
— Ну, давай же, — продолжал настаивать Сангалло, — чисто ради научного интереса.
В глазах у пожилого режиссера была такая печальная улыбка, что Максим не решился отказаться. Едва он продел руки в рукава, как лицо Сангалло просветлело, словно у ребенка, получившего награду.
— Нижнюю пуговицу застегни, — добавил Сангалло. — Пояс свободненько и немного подними воротник.
В тот день он больше не интересовался плащом, но через неделю, перед второй их экскурсией по Риму, опять протянул его Максиму и тут же погрузился в поиски какого-то абзаца в монографии о Пьяццетте — они собирались в тот день пойти посмотреть его «Юдифь».[84] В этот раз Максим надел плащ безропотно. Плащ был легким. Если Максиму это не трудно, то отчего не сделать приятное старику?
Сегодня Максим надел плащ не задумываясь. Но из — за того, что виконт снова оседлал своего конька, Максим передумывает.
— Как можно наслаждаться тем, что всегда существует? — вопрошает Сангалло. — То, что и на второй взгляд по-прежнему остается привлекательным, наводит скуку.
Максим с силой бросает плащ в угол. Середина декабря, на улице все еще двадцать градусов тепла.
Раз все так мимолетно, — говорит Максим, — тогда и блеск этой вещи не вечен, — и к своему большому удивлению слышит, что это прозвучало совершенно несправедливо.
— Скука очень похожа на красоту, — говорит Сангалло невозмутимо. — Скука — это то, что остается, когда прекрасное сажают в клетку.
Дни, когда Сангалло показывает Максиму Рим, напоминают сумасшедшие экспедиции. Они несутся с бешеной скоростью по улицам, как первооткрыватели на плоту по стремнине неизведанной реки. Часами бродят по старинным площадям и античным форумам, следуя непонятному плану, который они по вдохновению легко нарушают.
В любой момент виконт может изменить курс. Открывая дверцу на ходу, Сангалло велит шоферу остановиться. Не успевает машина затормозить, как он, с его громоздкой фигурой, уже бежит по переулку или через ворота, словно страшно спешит, шаркая по мостовой своими огромными ботинками. Когда Максим догоняет Сангалло, тот уже находится в церкви или посреди руин перед фреской или мраморной скульптурой и показывает пальцем на ту деталь, которая его особенно трогает. Обычно он что-то при этом рассказывает или читает наизусть: стихи или отрывок из искусствоведческой статьи, погружается в воспоминания юности, иногда изображает сценку Чарли Чаплина с чаплинской мимикой и походкой. В прошлый раз режиссера так растрогало освещение на одном из забытых полотен Караваджо в церкви Санта Мария дель Пополо, что его глаза наполнились слезами.
— There, — сказал он, изображая Оливера Харди[85] и, как он, нервно теребя галстук, — that’s another fine mess you’ve gotten me into![86]
— Этого фавна, — Сангалло показывает на скульптуру Праксителя, — зовут Момо.
— Момо?
— Фавн Момо. Мой друг с детских лет.
Это был третий зал, в котором Сангалло позволил Максиму остановиться, после того как они пробежали через все Ватиканские музеи.
_ Я познакомился с ним в доме подруги моей матери в Бергамо. Он стоял на лестнице наверху. Летом мы приезжали туда отдохнуть на озере. И когда я вечером шел в свою комнату, Момо всегда поджидал меня наверху на прохладных мраморных ступенях — мускулистая грудь, мощные руки, которые подносят ко рту маленькую флейту. Видишь, как он дышит? Грудная клетка расширяется. Он может заиграть в любой момент.
Старик кладет руку на каменную диафрагму фавна. Охранник видит это, но ему и в голову не приходит ничего сказать. Виконта знают все смотрители музея.
— Однажды я увидел рыбака. Он стоял по пояс в озере, выбирая одну из своих сетей. «Момо!» — крикнул я ему. Так он был похож на мою любимую скульптуру. Я представил себе шерсть у него на ногах под водой и раздвоенные копыта, как у козла. Я тогда залез в воду. Мне было двенадцать лет.
«Для других людей Рим — это город, — думает Максим, — а для пожилого режиссера — гигантский чердак, полный игрушек из детства». Тем временем Сангалло уже бежит дальше. Перешагивает через веревку, преграждающую проход публике. Максим догоняет его, обежав вокруг всего музея по внешней галерее.
Филиппо? Почему мы всегда так спешим?
— Потому что за нами гонится время. Это же Рим. Не спать! «Сегодня» промчится, не успев стать «вчера». Разве ты не видишь, как кувыркаются века, словно дети, оставленные в кондитерской и перебрасывающиеся тортами? Нет, если ты хотел осматривать Рим медленно, шаг за шагом, надо было приезжать раньше. А так — я делаю, что могу. Беру тебя с собой. Показываю то, что для меня важно. Если здесь тебя интересует что-то еще, ты можешь вернуться сюда сам. Потом. Один. Но я в любом случае спас то, что можно было спасти.
Смотритель открывает для них дверь в длинный узкий коридор, ведущий в темное непонятное помещение. Священная тишина музея нарушается там приглушенным шумом, какой бывает за полотнами декораций во время кофе-брейка между двумя съемками. Там накурено и полно людей. Римские рабочие обедают: вода и молодое разливное вино, пицца «Бьянка» и блюда с томатами, виноградом и апельсинами. Среди них несколько японцев. Одни в белых халатах, другие в футболках с надписью: «Японская национальная телекомпания». С противопыльными масками под подбородком и защитными очками на лбу они стоят вместе с маленькой делегацией профессоров в костюмах миланского покроя, нагнувшись над чертежами. Когда к ним подходит Филиппо, ученые по-дружески приветствуют и угощают его. Гейша в европейском костюме подает ему с глубоким поклоном чашу, которую он выпивает со всей серьезностью, приличествующей чайной церемонии. Теперь можно поговорить о делах.
Только сейчас Максим замечает на стенах какие-то складки. Это тяжелые отрезы ткани, как в палатке цирка. Маленькое помещение, где они находятся, оказывается частью большого зала. Тут и там виднеются строительные леса — помост, служащий основанием для высокой вертикальной конструкции. Вдали, на головокружительной высоте — деревянные перекладины. Максим слышит жужжание голосов сотен посетителей, прямо за полотнищем. В то же время он узнает яркий розовый и нежно-зеленый цвета изображения, уголок которого виден между настилами лесов и маленьким строительным лифтом. Максим отодвигает ткань в сторону, медленно, как занавес в театре. Проходит и обнаруживает себя посередине Сикстинской капеллы, прямо под Богом, который мощным движением отделяет день от ночи.