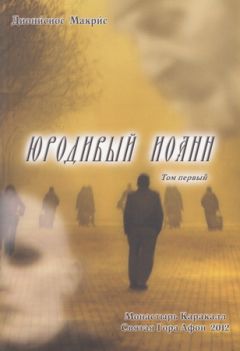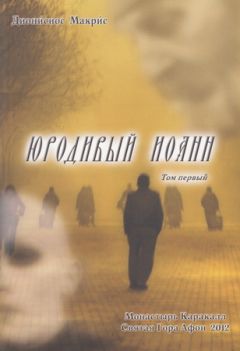Илья Константиновский - Первый арест
Конец воспоминаний Дружба с Силей и часы, проведенные на маслобойне, многому меня научили, и, когда Макс предложил мне выполнять его обязанности в библиотеке, в том числе и негласную, но самую главную из них – передачу пакетов нелегальной литературы, – я немедленно согласился. Привыкая к своим новым занятиям, я очень гордился ими и был искренне удивлен, когда подслушал однажды, как темноволосая, слезливая уборщица пожаловалась кому-то из читателей, что я сухой и черствый мальчик, ничем не выражаю своего сочувствия, когда она рассказывает о своей тяжелой жизни, – очевидно, у меня нет сердца…
Я был уязвлен и возмущен. О, если бы можно было рассказать ей, чем я занимаюсь, здесь же, у нее на глазах, в сыром библиотечном зале! Ведь я рискую своей свободой именно для того, чтобы не было больше на свете несчастных уборщиц, получающих гроши от самодовольных румяных толстяков, уверенных, что они добряки и благодетели. Что важнее, спрашивал я самого себя: высказывать участие и помогать в каком-нибудь одном, отдельном случае бедности или работать во имя того, чтобы люди навсегда покончили с бедностью, нищетой? И я находил, что второе неизмеримо важнее первого, что частный случай мал и ничтожен, все силы должны быть отданы для решения великих общих задач.
Сколько раз в жизни вспоминал я потом слова несчастной библиотечной уборщицы!
Сколько раз задавал я себе вопрос, казавшийся тогда простым и легко разрешенным: точно ли великое противоречит малому и принципиальность ума важнее беспринципности доброго сердца?
Счастливая, не ведающая колебаний и сомнений пора!
По утрам я шел в гимназию спокойный, без страха перед часто нераскрытыми учебниками, в уверенности, что вся гимназическая премудрость – это лишь сухое предисловие к подлинной книге знаний, которую мне предстояло раскрыть. После обеда наступали часы привольного шатания по городу, по его улицам и бульварам, по крепости, нависшей своими разрушенными, наполовину срытыми амбразурами над обрывистым берегом реки. Заканчивались эти прогулки в тихой городской читальне, где я почти каждую неделю открывал какое-нибудь новое сочинение столетней давности, казавшееся мне последним словом мудрости. А по вечерам, три раза в неделю, я сам превращался в библиотекаря, выдавал вместо Макса романы Чарской и Сенкевича и потихоньку совал кое-кому маленькие пакеты, завернутые в газетную бумагу. И хотя знал, что за каждый из них можно получить несколько лет тюрьмы, я чувствовал себя здесь не менее счастливым, чем где-нибудь на реке, где мне ничего не угрожало.
Довольно часто я ездил на праздники домой, в родной город, за шестьдесят километров от уездного центра. Пароход отходил в четыре часа утра, и в такие ночи я никогда не спал. Зимой мы собирались с вечера у кого-нибудь из отъезжающих гимназистов или учеников коммерческого училища, однокашники и земляки, иногда и девушки – ученицы из нашего города. Вечер проходил в песнях, играх и шумных спорах на самые невероятные темы, что на гимназическом языке называлось заниматься «теорией спички». В три часа ночи подъезжали заказанные накануне извозчики, и вся веселая, хохочущая компания рассаживалась по маленьким, покрытым коврами и собачьими шкурами санкам, – мальчики без фуражек, с расстегнутыми от избытка веселья, молодости и здоровья пальто, девушки – закутанные в шубки и шали, в темных беретах, из-под которых видны были их сияющие влажные глаза. Ныряя вместе с санками и стукаясь о камни слабо заснеженной мостовой, мы мчались по главной улице мимо знакомых меловых стен собора, казино, трибунала, мимо длинных и угрюмых казарм, мимо запорошенных снегом дровяных складов, вниз, к темной, невидимой реке, где уже стоял у пристани, подрагивая от равномерного гула машин, блестя красными бортовыми огнями, маленький почтовый пароход. Здесь мы вваливались в белый, уютно освещенный салон, будили своим смехом и криками одиноких пассажиров, дремавшего за стойкой буфета официанта, заказывали ему кофе с ликером, шумели, хохотали и всячески подчеркивали свою удаль и независимость заправских путешественников. Когда пароход отчаливал, все поднимались на темную палубу и долго смотрели вниз на невидимую, страшную, бурлящую где-то за бортом воду, вздрагивая каждый раз, когда к этому бурлению примешивался треск и сопение тонких невидимых льдин. Было холодно, черно, жутко не только внизу, на воде, но и над головой, в прочно затянутом тучами безлунном небе. Но зато как уютно было стоять у полураскрытой галереи машинного отделения и смотреть вниз, где урчали, вздрагивали и плавно оборачивались вокруг своей тонкой оси тяжелые, отливающие сталью и маслом пароходные валы, вращались, свистали, выпуская тонкие струи пара, бесчисленные клапаны, поршни, масленки. Из машинного отделения приятно тянуло маслянистым теплом, а сзади в спину дул холодный, морозный ветер. Как хорошо было это смешение: пышущий жар и мороз! Как приятно было присутствие рядом темной фигуры девушки с милым пухлым лицом и то расширяющимися, то суживающимися зрачками, словно отражающими жаркий пламень машинного отделения. Она тоже любила стоять здесь и смотреть вниз на сверкающую в непрерывном движении сталь, подставлять лицо под жаркое, пахнувшее нефтью и паром, дыхание работающих машин. Как волновала мысль о том, что в потайном кармане тужурки у меня зашит пропагандистский материал для ячейки МОПРа, которую я сам организовал в предыдущий свой приезд на каникулы в родной город, и что утром, когда мы подойдем к пристани, я сойду на берег под самым носом у ничего не подозревающего высокого полицейского Роберта, всегда присутствующего при прибытии пароходов. От этих мыслей мне почему-то становилось весело, и я начинал дурачиться и шутливо пугать стоящую рядом
девушку в меховой шубке. И это смешение беззаботного, легкомысленного гимназического времяпрепровождения с чувством ответственности и постоянной радостной мыслью о том, что я занят необычным, рискованным, но возвышенным делом, было приятнее всего.
Нет, я не жалею, что согласился на предложение Макса, передавал пачки нелегальных газет, печатал вместе с Силей подпольные листовки, расклеивал их на телеграфных столбах, участвовал в нелегальных собраниях, распространял материалы МОПРа. Это хорошо! Я не отказываюсь от всего того, что в конце концов привело меня сюда, в полицейскую камеру. Это было очень хорошо! И хотя я все еще чувствовал под собой шершавую холодную рогожу, но боли в суставах прошли, и тяжесть, давящая грудь, тоже исчезла вместе с тревогой, грустными мыслями и страхом перед завтрашним днем.
Перед рассветом Наступило утро, и я услышал радостный гул и громкую, ликующую песню. Нет, это не только новое утро, это какой-то новый, необычный, радостный день. Я понял, что это день революции, и увидел себя в рядах большой, шумной демонстрации с красными флагами впереди. Мы шли по городу. Толпа пела: «Вставай, проклятьем заклейменный…», «Вы жертвою пали» и другие революционные песни, которым учил меня Макс. Я тоже пел вместе со всеми. Вот и Соборная площадь и знакомое здание городской библиотеки. Когда мы подошли ближе, я сделал знак, и мы остановились. Несколько товарищей вошли вместе со мной в читальню.
Штирбу, как всегда, стоял у барьера и шептался с высокой полной дамой. Увидав меня, он побледнел и хотел спрятаться за книжные полки. Но было поздно. «Вот он! – сказал я товарищам.- Он служил в полиции!» Толстая дама вскрикнула и упала в обморок. Молочно-белые щеки библиотекаря стали пунцовыми, он начал что-то говорить, просить прощения, но никто его не слушал. «Выведите его!» – сказал я товарищам. И они вывели его за руки, бледного, трясущегося, жалкого теософа, сразу забывшего изречения Кришнамурти и законы личного магнетизма. Когда мы вышли из библиотеки, нам навстречу попалась другая группа товарищей: они вели полицейского комиссара с наглыми глазами и его помощника Лунжеску. Я снова сделал знак, и все остановились. «Они и меня избивали, эти презренные сигуранты! – сказал я. – Смотрите, они выбили мне зубы!» В возмущенной толпе кто-то предложил тут же выбить зубы полицейским, но я их остановил. «Не надо! – сказал я. – Социалистическая революция – самая справедливая, самая гуманная, самая светлая и чистая, самая окончательная, непобедимая революция. Отныне никто никого не будет эксплуатировать, истязать, мучить. Революция преобразит мир, общество, людей и нас самих и наш город». Я говорил еще очень долго, пламенно, убедительно. Все слушали, одобряли, но вдруг кто-то перебил меня и спросил, указывая на полицейских и Штирбу. «А что с этими делать?» – «Уведите их в тюрьму, – сказал я, – и предайте суду!» Когда их уводили, я сказал товарищу, возглавляющему конвой: «Позаботься, товарищ, чтобы все было законно: в тюрьме должны быть койки, а не рогожи, и не забудьте всех накормить, – когда меня арестовали, они не дали мне поужинать, и я очень голодал».