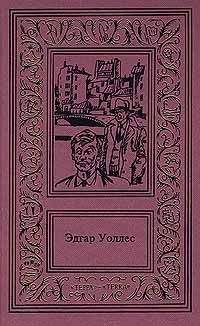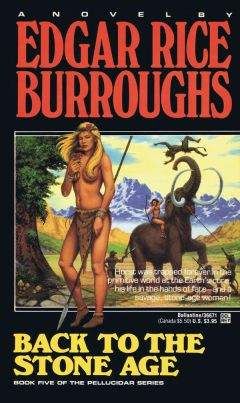Антонио Муньос Молина - Польский всадник
– Продолжай, – просил я его – расскажи еще немного, еще рано спать. Но кто украл мумию, почему ее замуровали?
Он улыбался, довольно и хитро глядя на меня и посматривая на дверь, боясь, что появится моя бабушка Леонор и начнет ругать его, щелкал языком и проводил ладонью по губам. Собираясь ложиться спать, дед заводил настенные часы ключиком, хранившимся в кармане его жилета и, как мне казалось, управлявшим ходом времени, и добавлял:
– Ввиду исчерпанности тем для обсуждения заседание закрывается.
– «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою», – читает Надя наизусть, держа в руках закрытую книгу – старую Библию испанских протестантов с шероховатыми на ощупь страницами.
Рамиро Портретист получил ее по завещанию от дона Меркурио, сам не понимая причину и видя в этом чудаковатость врача, знак его невероятного обращения на смертном одре. Подобное случалось с некоторыми убежденными атеистами, как говорил в своих беседах за столиком с жаровней и четками инспектор Флоренсио Перес, жалкий глава Евангелического Прощения и Ночного Поклонения, на одном из заседаний которого разговорился с многообещающим, энергичным и скромным молодым человеком – Лоренсито Кесадой, обозревателем футбольных матчей Католического общества и давним служащим – ветераном, как он сам себя называл – универмага «Метрическая система», впервые введшим в Махине десятичную систему счисления. Помимо этого он был корреспондентом «Сингладуры», провинциальной ежедневной газеты Движения, и автором так и не изданной книги «Люди и имена Махины», куда намеревался включить сто лучших снимков Рамиро Портретиста, среди которых ни один не может сравниться своим величием с фотографией дона Меркурио, сделанной за несколько месяцев до его смерти. Месяцев или недель – в этом Лоренсито не был уверен и не смог уточнить, потому что, когда он отправился к Рамиро, чтобы выяснить точную дату, оказалось, что тот исчез в неизвестном направлении, а глухонемой Матиас, его неизменный помощник, теперь водивший с важностью возницы грузовик для перевозки комбикорма, тоже не смог сообщить ему, куда уехал хозяин. Матиас лишь пожал плечами, с той же глупой счастливой улыбкой, с какой тридцать с лишним лет назад очнулся от каталепсии: ни ему, ни кому другому не было известно местонахождение фотографа – за исключением майора Галаса, но и сам он тоже исчез тогда во второй и последний раз. Однако почти никто этого не заметил, как почти никто – кроме Рамиро Портретиста, инспектора Флоренсио Переса и лейтенанта Чаморро – не заметил прежде его возвращения в город, когда майор Галас появился, похожий на иностранца, с бабочкой, как у американского профессора, вместо привычного галстука, и жил так уединенно в своем коттедже в квартале Кармен, как мог бы жить в пригороде Нью-Йорка, откуда он и приехал. Только с ним попрощался Рамиро – с ним и его дочерью, молчаливой рыжей девушкой, а потом Лоренсито Кесада узнал, что фотограф навещал майора в течение последних месяцев, проведенных обоими в городе, и рассказывал ему, как исповеднику, свои самые сокровенные секреты. Бывший майор – а возможно, в действительности бывший полковник – никогда не перебивал и не спрашивал причину его излияний: всегда молчаливый, внимательный, по-военному вежливый, он угощал Рамиро чаем, остававшимся нетронутым, потому что фотограф не имел к нему привычки, и коньяком, который он осушал с той же поспешностью, с какой пил в последние годы своей молодости немецкую водку дона Отто Ценнера. Майор Галас молча кивал головой, когда Рамиро показывал ему старые фотографии: снимок, сделанный ночью, когда майор построил войска на площади перед муниципалитетом и стал навытяжку перед мэром, объявив ему о верности гарнизона Махины конституционному строю Республики, и другие, почти никем не виденные, фотографии – дона Меркурио, замурованной девушки и невесты, погибшей от шальной пули через несколько часов после свадьбы. Также Рамиро показал майору Библию в черном переплете, полученную по завещанию от врача; потом он положил ее в сундук и отправил с Матиасом майору – обременительное и довольно абсурдное наследство, от которого тот из деликатности не смог отказаться, хотя не понимал, почему Рамиро Портретист выбрал именно его. Возможно, он так поступил, воображая, что майор Галас будет хранить этот сундук всегда и не испытает ни малейшего искушения открыть его и осмотреть содержимое: он был совершенно не склонен к любопытству, как неспособен на малейшую неверность или предательство.
Непринужденный, говорливый, вежливо-пьяный, почти патетический, не снимая из страха простудиться пальто и темно-синий шарф, приятно гревший затылок, Рамиро Портретист сидел, откинувшись на софе, в доме майора и пристально смотрел на сад, полный сухих листьев и бездомных кошек, на гравюру со скачущим в ночи всадником и говорил, как никогда раньше, будто только теперь наконец получил возможность или право сказать вслух те слова, которые таил всю свою жизнь. Рамиро робко и непрерывно отпивал коньяк и, не стыдясь, вздыхал, чувствуя себя второстепенным и в то же время необходимым персонажем истории, не будучи уверен, что она принадлежит ему, но освобождаясь от нее так же, как решил избавиться от своей студии и всего архива, чтобы уехать из Махины свободным и успокоиться в своем жизненном крахе, таком желанном и уютном, как выход на пенсию, – далеко ото всех, в городе, где его никто не знает, где он не встретит в каждом лице и на каждом углу назойливые напоминания о своем прошлом, о долгой иллюзии своей жизни, где лица на улице не будут тенями тех, кого он хранил в своем архиве как тягостную память, лишавшую его своей собственной.
– Я должен был узнать, кто была та замурованная женщина, – сказал Рамиро майору Галасу.
Но он напрасно пытался выяснить что-нибудь у смотрительницы из Дома с башнями и недоверчивых, неприветливых обитателей площади Сан-Лоренсо. Потом, в качестве последнего варианта, потому что его всегда охватывала дрожь при входе в псарню, он обратился к инспектору Флоренсио Пересу, но не получил никакого объяснения, вероятно потому, что у инспектора его не было. Он принял Рамиро в своем кабинете в полицейском участке в каком-то невменяемом состоянии, выглядывая с балкона, выходящего на площадь Генерала Ордуньи, и наблюдая из-за занавесок за праздными людьми, собирающимися в крытых галереях и вокруг статуи. На лице инспектора было внимательное и сосредоточенное выражение, и пальцами правой руки он барабанил по стене, собственным брюкам и письменному столу, неутомимо отбивая монотонный ритм, раздражавший Рамиро. Инспектор не прекращал постукивать пальцами и не слушал, что ему говорили, будто находился где-то в другом месте, как поэт, подыскивающий сложную рифму, или детектив-мизантроп, находящийся на пороге раскрытия загадки. Инспектор, как сказал Рамиро, хотел бы быть тем толстым детективом из романов и раскрывать преступления, не выходя из своей комнаты, а только размышляя, делая заключения, проникая в душу каждого жителя Махины. Как криминолог и служащий – а также из-за упорного и яростного противостояния, стремления не походить на других, поднявшихся выше по служебной лестнице, не имея других достоинств, кроме синей рубашки с закатанными рукавами и умения громко щелкать каблуками, являясь в суд, – Флоренсио Перес считал донос и пытку средствами, возможно, необходимыми, но, без всякого сомнения, недостойными и примитивными, как римский плуг и обувь из ковыля. Ему бы хотелось заменить их достижениями науки, безупречной точностью дедуктивного интеллекта и сверхъестественными телепатическими способностями, гипнозом и детекторами лжи.
– Однако если в Махине развитие сельского хозяйства и торговли находилось на уровне Средних веков, – меланхолически сказал он фотографу, – неудивительно, что силы общественного правопорядка должны прибегать при исполнении своих обязанностей, предписанных законом, к тем же примитивным средствам, что и суды инквизиции. Микрофоны, скрытые в зажимах для галстука, – вздохнул он, – скрытые камеры вместо грязных доносчиков и осведомителей, «сыворотка правды», а не пощечины и угрозы, электрический стул вместо гарроты!
«Непостижимые загадки без ответа», – сделал быструю надпись инспектор, прежде чем спрятать в ящике стола фотографию, только что переданную ему Рамиро Портретистом, пожал плечами, и его длинное жалобное лицо стало похоже на соскальзывающую маску на неудавшемся празднике.
– Спросите дона Меркурио, – сказал он, – может быть, он знает что-нибудь.
– А вы спрашивали его? – Рамиро думал о фотографии, только что спрятанной инспектором, воображая, что ящик стола был для девушки новой могилой, еще одной несправедливой обидой.
– Мне он ничего не скажет. Ему ие позволяют этого его масонские убеждения.