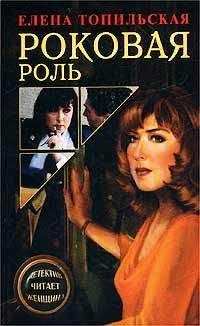Елена Чижова - Лавра
«Может быть, вы и правы, – призрак разбитого корыта мешал сосредоточиться. – Может, и вправду стоит начать поближе, с моих собственных грехов…» Я сказала, чтобы успокоить, мне и в голову не пришло, что сейчас, здесь… Он бросил на меня настороженный взгляд. «Не беспокойтесь, я совсем не собираюсь исповедоваться, да было бы и странно, так, сидя за столом…» Мои слова обрадовали его, и вдруг, преисполнившись сочувствия, я представила себе, сколько же чужих убогих грехов он должен был выслушивать ежедневно – по должности. Чужие грехи, наполняя его тело, изо дня в день стремились в небо. К престолу они подлетали легкими, пустыми, полыми. «У вас – трудная работа, – я начала снова, отходя от себя, – если бы мне выпало на вашем месте, мне было бы тяжко, – я говорила, еще не зная, как объяснить, – если слушать день за днем, что-то остается…» – «В душе?» – теперь, успокоившись, он помогал доброжелательно. «Нет, я не знаю, вряд ли…» – «Если не в душе – значит… – он понял, но отказался продолжить. – Говорят-то не мне, я ведь – ничто, проводник». Свободная музыка, обходя его слабый скверный голос, уходила в небо. Для того чтобы уйти, ей не нужно было его тело. Я подумала, что чужие грехи совсем не похожи на музыку. «Когда вы стоите так, между небом и землей, и чужие грехи, которые признаются церковью, проходят сквозь вас – вы действительно остаетесь свободным, но если… – я вспомнила о владыке, выедающем чужие просфорки, и подумала, что, не признавая, церковь собирает в себе первородный русский грех. Церковь – Тело Христово, так говорили бахромчатые книги, и в этом теле… Я смотрела на отца Глеба, боясь вымолвить: именно в этом теле, наливая его тяжестью, копятся непризнанные, а значит, и нераскаянные грехи.
Словно разглядев мои мысли, его косящий глаз зажегся и, по какой-то одному ему понятной связи, он стал рассказывать о временах, когда занимался йогой. По его словам, особенно тяжко пришлось тогда, когда, не вполне отойдя от восточных учений, он начинал молиться по-православному. «Действительно опасная штука, – йоговские упражнения и православные молитвы, накладываясь друг на друга, давали жуткий эффект: – Какие-то разные поля, физически несовместимые, я не знаю, как получалось, но по вечерам меня рвало». Рвота прекратилась, когда он, окончательно оставив медитацию, сосредоточился на молитвах. «Мне пришлось выбирать. Иногда нечто подобное я чувствую после долгих исповедей, ты права – что-то, наверное, стекается тяжестью, подпирает, но теперь я знаю, как облегчить». Я вскинула брови, но смолчала. Я поняла его. Он хотел сказать: то, с чем церковь имеет дело, и мои мысли о первородном русском грехе – это разные поля, несовместимые физически. В одном пространстве их собирать нельзя. Впрочем, может быть, я ошиблась, потому что, повеселев, он стал говорить о том, что иногда, так, за столом – проще, можно обсуждать какие-то вещи от себя, так сказать, вне церкви и безо всяких последствий. «Конечно, легче, – я согласилась сразу. – Во-первых, нет никакой тайны исповеди, а во-вторых, никакой мистики, а значит, можно попытаться соединить несоединимое». – «Ты имеешь в виду, что если за столом…» – «За столом – это никакая не исповедь, а разговор доверительный, как…» Я чуть не сказала – в постели, но не сказала. Резко, как будто что-то, похожее на машину, выскочив из тьмы, выросло передо мной, легло тяжестью на мое тело, я заговорила о том, что завтра к нам приходят университетские друзья: после долгого перерыва решили навестить нас – в нашей дали. «Придут вечером, часов в семь, приходите и вы», – мне хотелось видеть его среди веселых лиц, некогда окружавших мою любовь. В те, любовные, времена я не думала о грехах. А еще я подумала о том, что, может быть, стоит сделать попытку соединить отца Глеба с Митей, который лучше меня сумеет рассказать ему о фантазиях на русские темы – рассказать и переубедить. Мысль о Мите не испугала меня. Я думала лишь о том, что во мне нет таланта проповедника, я не знаю слов, способных передать мой страх перед невыносимой тяжестью, которой наливается мое тело, когда я пытаюсь стать безгрешной в этой стране.
По обыкновению наших встреч он пришел позже, после службы, когда вечеринка была в разгаре. Все сидели за столом, заставленным едой: я наготовила вволю. Ожидая звонка, я прислушивалась, изредка поглядывая на мужа. Через силу он делал вид, что ему весело – как прежде. Водка, стоявшая перед ним в полупустой бутылке, не брала. Он то отвечал на шутку, то, вдруг уходя в себя, становился неприятно мрачным, и тогда жила на шее дергалась и дергала щеку. Он ловил себя на судороге и распускал лицо, но вежливо распущенного выражения хватало ненадолго: снова его взгляд собирался. Изрядно подвыпившие гости этого не замечали. Для них, смотревших прежними, университетскими глазами, он оставался тем, кем был всегда. Они не задумывались о его начинающейся карьере, да и, не зная подробностей, вряд ли могли оценить степень его удач и неудач. Как хозяйка я сидела близко к двери, чтобы легче встать и подать. Митя, на которого я рассчитывала, сидел рядом со мной. Теперь, когда он пришел и сел рядом, я не поворачивала головы. Его близость меня сковывала, как будто не только я, но и он знал о том, что случилось со мною той ночью. Сидя рядом со мной, он молчал. Когда раздался звонок, я поднялась и вышла.
Распахнув дверь, я встала на пороге. Он стоял по ту сторону, опустив глаза, словно под порогом было зарыто что-то, скорченное в глиняном сосуде: он не решался перешагнуть. «Заходите», – приказала я весело. Отец Глеб вошел и, не раздеваясь, принялся рыться в нагрудном кармане, судорожно, как ищут последние деньги. «Вот, я для тебя – подарок, – он вытащил маленькое, похожее на книжицу, – какая-то бабка принесла, сказала отдать, кому надо». Я протянула руку. «Это – Богоматерь Млекопитательница, редкий сюжет, очень старая…» – он объяснял подарок. Женщина, одетая в красное, кормила грудью крепко спеленутого Младенца. Кожа Младенца была коричневой, высохшей. «Почему – мне?» Пелены, укрывавшие младенческие ноги, были густого глиняного цвета. «Женщина спасается деторождением», – произнес он мрачно. Обдумав наш разговор, он предлагал мне другой выход. Усмехнувшись, я приняла подарок.
Когда мы вошли в комнату, муж поднялся с места и принялся представлять отца Глеба. Друзья кивали доброжелательно. Покивав, они вернулись к своим разговорам, нимало не заботясь о том, чтобы ввести нового гостя в курс дела. По хмельному обыкновению они начали вспоминать давние истории из совхозной жизни: в начале шестидесятых их первый курс ездил на картошку. Подробности я выучила давно. Вначале шли скоромные воспоминания о совхозных девицах, благосклонных к ленинградским студентам, затем кухонные перипетии: кто, что и при каких обстоятельствах стряпал, тем самым прогуливая полевые работы.
Кульминацией же веселья был рассказ о суде, который они к концу совхозного срока придумали и разыграли по всем правилам: прокурор, адвокат, свидетели. Подсудимым, виновным в постыдном юношеском грехе, был избран мой муж. Соль заключалась в том, что, учитывая присутствие преподавателей, сам постыдный плотский грех никак не назывался – и прокурор, и адвокат, и свидетели, приводившие новые подробности, вынуждены были говорить обиняками, но так, чтобы непосвященные сочли содеянное всего лишь тяжким уголовным преступлением, в то время как у посвященных не должно было возникнуть и тени сомнения в природе осуждаемого греха. Хохот, начавшийся пятнадцать лет назад, вспыхивал всякий раз, когда они собирались вместе. В особенности их веселило то, что и прокурор, и адвокат требовали одного и того же (по-восточному жестокая и бесповоротная процедура напрямую не называлась) – при этом обвинитель называл ее высшей мерой, защитник – снисхождением. В своем последнем слове подсудимый соглашался с приговором: он говорил, что приносит в жертву свою плоть – в назидание потомкам. В моем присутствии они вспоминали эту историю особенно охотно. Я замечала это и раньше, но сегодня, когда после долгого перерыва, заполненного странными и трудными событиями моей жизни, они снова завели волынку, что-то злое поднялось во мне: покосившись на мужа, я испугалась, что теперь, учитывая нашу с ним новую жизнь, он может вспылить и выгнать. Надо было что-то предпринять, но не решаясь вслух, я склонилась к уху ближайшего и, в этот миг совершенно забыв о том, кто сидит со мною рядом, тихим шепотом посетовала, что в жизни часто случается навыворот – вот ведь, судили, а теперь у осужденного за такой грех самая молодая и красивая жена.
Шум, стоявший над столом, не помешал ему расслышать дословно. Митя повернул ко мне лицо, на котором в этот веселый миг еще оставались следы ушедшей совхозной молодости. Следы исчезли в короткой усмешке, спрятались у губных морщин. Нынешний возраст, от которого они в те университетские годы ожидали многого, выступил, как ранняя седина. Снова, как в тот давний раз, я смотрела неотрывно. Он глядел на меня удивленно, видно, успев привыкнуть к моей обычной почтительной бессловесности, никак не мог решить, как следует понимать меня.