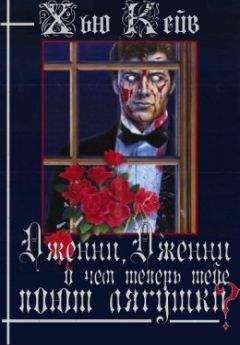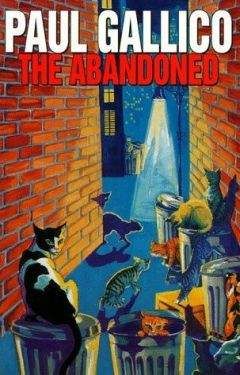Мишель Турнье - Пятница, или Тихоокеанский лимб
Лежа на земле… Эти три слова, столь естественно вышедшие из-под моего пера, быть может, и есть ключ к загадке. Земля неодолимо притягивает сплетенные тела любовников, чьи губы слились в поцелуе. Она убаюкивает их после страстных объятий, даруя счастливый сон, сменяющий любострастие. Но она же поглощает и мертвых, пьет их кровь, съедает их плоть, чтобы возвратить их душу космосу, который они покинули на краткое мгновение жизни. Любовь и смерть — эти две ипостаси поражения человека — в едином порыве устремляются к одной и той же стихии, к земле. Ибо и та и другая — земного происхождения.
Самые прозорливые из людей сразу угадывают — если не видят абсолютно ясно — эту связь. Беспримерная ситуация, в которой я очутился, являет мне ее неопровержимо, да что там говорить! — заставляет меня проникнуться ею до мозга костей. Я лишен женщины и потому вынужден обратиться к ближайшим объектам любви. Обделенный теми богатыми возможностями, какие предоставляет сношение с женщиной, я без колебаний внедряюсь в эту землю; она же станет и последним моим приютом. Что я сотворил там, в розовой ложбинке? — вырыл своим членом свою же могилу и умер той преходящей смертью, имя которой — сладострастие. Следует также отметить, что я преодолел новый этап в творящейся со мной метаморфозе. Ибо понадобились годы, чтобы прийти к этому рубежу. Когда волны выбросили меня на здешние берега, я еще строго придерживался всех канонов человеческого общества. Механизм, препятствовавший естественному половому влечению к земле и направлявший меня к женскому лону, действовал вполне исправно. Мне нужна была женщина — или ничто. Но мало-помалу одиночество вернуло меня к первозданной простоте. Влечение лишилось своего объекта — и механизм дал сбой. В той розовой ложбине желание мое впервые обратилось к своей естественной стихии — земле. И в то время, как я делал этот новый шаг в своем расчеловечивании, мое alter ego, создающее рисовое поле, творило одно из вполне человеческих дел — пожалуй, самое дерзкое за все время владычества над Сперанцей.
История эта могла бы стать поистине захватывающей, не будь я ее единственным участником и не пиши я ее своею кровью и своими слезами.
«И будешь венцем славы в руке Господа и царскою диадемою — на длани Бога твоего.
Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя: Мое благоволение к нему, а землю твою — замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается».
Стоя на пороге Резиденции перед пюпитром, на котором лежала открытая Библия, Робинзон вспомнил, что некогда окрестил эту землю «островом Скорби». Но нынешнее утро сияло, точно свадебное, и Сперанца покорно простиралась у его ног в первых нежных лучах восходящего солнца. С холма спускалось стадо коз; резвые козлята, кувыркаясь, словно горох сыпались с крутого склона. На западе теплый ветерок теребил и расчесывал золотистое руно спелой пшеницы. За пальмовой рощей серебрилось молодыми жесткими колосками рисовое поле. Гигантский кедр у входа в пещеру гудел, как мощный орган. Робинзон перевернул несколько страниц Библии и открыл не что иное, как Песнь песней — любовный гимн Сперанцы и ее супруга. Вот что говорил ей супруг:
«Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим…
…волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской;
Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними;
Как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими.
Округление бедр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника;
Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями;
Два сосца твои, как два козленка, двойни серны;
Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти.
Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков».
А Сперанца отвечала ему:
«Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии.
Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне; он пасет между лилиями.
Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах;
Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони; там я окажу ласки мои тебе.
Мандрагоры уже пустили благовоние…»
А потом Сперанца сказала Робинзону — словно прочла в его душе мысли о любви и смерти:
«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь…»
Итак, отныне Сперанца обрела дар речи. Теперь ее языком были не перешептывания ветра с ветвями деревьев, не монотонная песня волн, не мирное потрескивание огня в очаге, отраженного в глазах Тэна. Библия, изобилующая образами, которые уподобляли землю женщине, а жену — саду, украсила его любовь благороднейшей из эпиталам. Вскоре Робинзон выучил наизусть эти священные пламенные тексты и, держа путь через рощу камедных и сандаловых деревьев к своей розовой ложбине, громко декламировал песни влюбленного, временами замолкая, чтобы услышать звучащий в его душе ответ любимой. А услышав, готов был тут же броситься на песчаное ложе, прижаться к груди Сперанцы ( «…как печать, на сердце твое…») и утолить в ее объятиях свою тоску и свое желание.
Прошло около года, прежде чем Робинзон заметил перемены в растительности розовой ложбины, привнесенные его любовью к ней. Сперва он даже не обратил внимания на исчезновение трав и злаков в тех местах, куда он изливал семя. Но потом его интерес привлекло новое растение — такого он ранее не видел нигде на острове. Широкие зубчатые листья располагались плотным пучком на очень коротком стебле почти у самой земли; меж ними распускались красивые белые цветы с копьевидными лепестками и пряным ароматом, они давали огромные коричневые ягоды, почти целиком выступавшие из своих чашечек.
Робинзон с любопытством осмотрел эти растения и занялся другими делами, но однажды ему пришло на ум, что они регулярно появляются именно в тех местах, куда попадает его семя, и прорастают через несколько недель. С той поры мысли его постоянно обращались к этой загадке. Он оросил семенем землю возле пещеры. Тщетно. По всей видимости, только розовая ложбина способствовала появлению невиданных растений. Их необычность мешала Робинзону сорвать хоть один лист, рассечь стебель или попробовать ягоду, как он, несомненно, поступил бы при иных обстоятельствах. Он уже совсем было решился оставить бесплодные раздумья, как вдруг один стих из Песни песней, читанный им прежде тысячу раз, принес ему разгадку тайны. «Мандрагоры уже пустили благовоние «, — пела юная возлюбленная. Возможно ли?! Неужто Сперанца исполнила библейское предсказание?! Робинзону приходилось слышать рассказы о чудесных свойствах этого растения семейства пасленовых, появляющегося у подножия виселиц — там, где казненные изливали последние капли своего семени, — и, следовательно, рождающегося от союза человека и земли. Он тотчас же ринулся в розовую ложбину, опустился на колени перед одним из кустиков и, разрыхлив руками землю, бережно обнажил корешок. Да, истинно так: его любовное слияние со Сперанцею не осталось бесплодным — белый, мясистый, причудливо изогнутый корешок поразительно напоминал по форме тельце маленькой девочки. Робинзон трепетал от умиленного волнения, вновь прикрывая корешок землей и сгребая песок вокруг стебля, как кутают одеяльцем ребенка в колыбели. Закончив, он удалился на цыпочках, стараясь не раздавить соседние мандрагоры.
Отныне, с благословения Библии, Робинзон сочетался со Сперанцею еще более глубокой и крепкой связью. Сперанца обрела для него человеческий облик, и теперь он мог называть ее своею супругой с еще более полным правом, нежели права Губернатора и властелина острова. Он, конечно, понимал, что этот тесный союз означает для него следующий шаг к забвению собственной человеческой сути, но во всей полноте уразумел это лишь в то утро, когда, проснувшись, обнаружил удивительное явление: его борода, отросшая за ночь, пустила корни в земле.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
«Не растрачивай попусту время — это материя, из коей состоит жизнь».
Сидя в подобии беседки, сплетенной из лиан и висящей в пустоте, Робинзон обеими ногами оттолкнулся от крутого каменного склона, на котором только что вывел свой девиз. Огромные белые буквы четко выделялись на темном граните. Место для надписи выбрано было превосходно. Каждое слово немым, но мощным призывом обращалось с черной стены к туманному горизонту, обрамлявшему необъятный серебристый морской простор. Вот уже несколько месяцев сбивчивый механизм памяти странным образом воскрешал для Робинзона «Альманахи» Бенджамина Франклина, которые его отец, считавший их квинтэссенцией морали, заставил сына вытвердить назубок. И вот уже кругляки, расставленные на песке дюн, образовали надпись, гласившую: «Бедность лишает человека всяческих добродетелей: пустой мешок стоять не может». Каменная мозаика на стене пещеры сообщала, что «лживость есть второй человеческий порок, первый же — склонность делать долги, ибо ложь садится в седло, опираясь на стремя долгов». Но главному шедевру этого «требника» предстояло вспыхнуть огненными буквами на морском берегу в ту ночь, когда Робинзон ощутит настоятельную потребность побороть мрак с помощью света истины. Сосновые поленья, обернутые паклей и разложенные в определенном порядке на сухой гальке, были готовы запылать в нужный момент; их вязь возглашала следующее: «Если бы мошенники постигли все преимущества добродетели, они сделались бы добродетельными из мошенничества «.