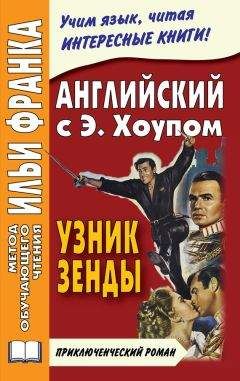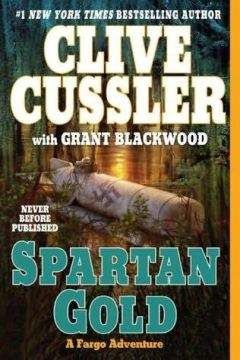Ласло Немет - Избранное
Однако в такой передаче сплетня еще больше задела Жофи, ударила в самое сердце. Она заспешила домой, решив в тот же час вышвырнуть из дому подлую балаболку. Сама вон какого сына воспитала — и смеет ее хаять?! Шани, естественно, дома не было — но тут как раз горбунья привела его.
— Ай-яй, Ирма, — едко заметила ей Жофи, — я уж думала, вы его на ночь у себя оставите. И не вижу теперь дитя свое. Но ежели, не дай бог, расхворается он, не вздумайте тогда отговариваться, будто он дома болезнь подхватил.
Горбунья, старая дева, испугалась, словно малый ребенок, хотя была одних лет с Жофи, и едва осмелилась объяснить, как все вышло:
— Шаника сказал, что его мамочка к бабушке с дедушкой пошла, и я думала, ему разрешили…
Но Жофи не было дела до истины.
— Если вам, Ирмочка, захотелось с ребенком повозиться, так не Шанику слушайте, у меня спросите. А вообще-то не люблю я, чтобы дитя болталось невесть где. Ну-ка, марш в угол сейчас же! Убью, если еще раз убежишь из дому.
Бедная горбунья все стояла, ее колесом выгнутые ноги дрожали, а она сама не могла бы сказать, отчего мучительно сжалась ее и без того впалая грудь, так что не хватало уже места бешено колотившемуся сердцу, — от жалости ли к горько рыдавшему любимцу или от презрительного «невесть где».
— Ну-ну, не надо так убиваться, лучше пообещай мамочке, что завтра придешь домой на полчаса раньше, — лицемерно утешила мальчугана Кизела, злорадно выглянувшая на кухню.
— Ничего, ты у меня еще получишь! — обрушилась Жофи на сына, даже не оглянувшись на дверь. — Про меня и так уж плетут, что я о тебе не забочусь, что ты у меня грязный ходишь! — Жофи повторяла слышанное, тут же и преувеличивая нанесенную ей обиду. — Только и знаешь, мол, по соседям шляться, а уж глуп до того, что имени отца своего запомнить не можешь.
Это был уже прямой выпад, ведь Кизела совсем недавно похвалялась: «Мой-то сынок в таком возрасте знал, как отца звать, даже сказать умел: „Папа — столичный служащий“». Кизела вздрогнула, поняв, что почтмейстерша не держит в тайне услышанное от нее.
— А ты, Шаника, скажи мамочке: довольно и того, что я знаю, как Ирмочку зовут! — ехидно подлила она масла в огонь, однако тон у нее был примирительный.
— Я выбью это у него из головы, — полыхала Жофи. — Никому не позволю из-за сына меня пачкать! — И взглянула наконец Кизеле прямо в лицо.
У старухи тотчас заломили все ее больные косточки, заныли давным-давно выпавшие зубы. Она сразу же стушевалась и отступила перед гневом молодой женщины.
— Кто ж вас пачкает? — воскликнула она растерянно и, лишь оказавшись у себя за дверью, осмелилась проворчать, защищая свое оскорбленное достоинство: — Ишь как расшумелись ни с того ни с сего…
В тот день вечерней беседы не состоялось. Обе разошлись по комнатам, с тем что никогда больше словом не перемолвятся. Жофи ярилась: «Старая ведьма, она еще смеет других матерей поносить!» А Кизела бормотала: «Ишь, кошка дикая, так и вскинулась!» Между тем Жофи было еще далеко до сна. Сперва она попыталась усовестить Шани: значит, мамочка тебе ни к чему, Ирма тебе нужна. Потом, когда Шани стал клевать носом, опять вернулась к грезам о муже, стала придумывать разные сценки, в которых участвовал бы он и ее зять, нотариус. Зять попробовал было заигрывать с нею, но муж хорошенько его отделал. А Имре Кизела — он будто бы дружок нотариуса — стал зятя науськивать: эх ты, простофиля, да будь у меня такая невестушка под боком, уж я не испугался бы мужика этого, ее мужа. А Жофи слышать слышит, но только крепче к мужу прижимается, губы его жаркие целует — пусть все вокруг хоть лопнут от зависти!..
За стеной так же беспокойно ворочалась на своей кровати Кизела. Она вновь и вновь слышала голос сына: «Ни к чему, мамаша, тары растабарывать, все равно ведь отдадите, сами же знаете». Замутил он мне душу, бесстыжий, в горести моей с головой выдал ведьме злоязычной. Завтра все село узнает, сколько полюбовниц перебывало у моего мужа. А ведь только и радости у меня — мужем покойным погордиться. Вот живи теперь с этой злыдней, и упаси боже задеть ее ненароком… Ох, лучше бы мне поскромней было устроиться, поступиться чем-то, нежели с врагом заклятым под одной крышей жить.
Наутро ни та, ни другая не знали, в ссоре они или нет. Обе молча обходили друг друга, и каждая следила только за тем, чтобы не сделать первой шаг к сближению; однако за торжественной неприступностью обеих таилась обоюдная готовность к примирению. Стоило Кизеле, месившей тесто для пышек, на секунду распрямиться, как тотчас вскинула голову и Жофи, которая за соседним столиком с мрачной сосредоточенностью чистила картошку: «Вы скалку ищете?» Кизела, в свою очередь подчеркнуто торопясь, пересказала Жофи сообщение, которое передала от Кураторов почтальонша, когда заносила газету: если Жофика хочет своему Шанике рубашечки заказать, мать может прислать портниху, которая как раз у них сейчас. Вообще через Шанику Кизеле было легче всего, не роняя себя, выразить стремление к миру. Из маленького катышка теста она вылепила для него солдатика, и Шани, когда фигурка испеклась, тотчас откусил солдатику голову.
— Ах ты, людоед маленький! — шутила жилица.
За целый год не приобрела она у Шани того расположения, каким заручилась теперь благодаря этому солдатику, которому можно было отгрызть голову. Когда Жофи уже за полдень, выглянула из комнаты узнать, где запропастился сын, он сидел, пристроившись на скамеечке у ног Кизелы, и вместе с нею разглядывал газету.
— Ну-ка, покажи мамочке, что ты знаешь, — ободряюще сказала мальчику Кизела. — Где в этом ряду буква «I»? Конфетку куплю тебе, если найдешь!
И действительно, пальчик Шани прошелся — конечно, уже в четвертый или в пятый раз — по жирному заголовку газеты «PESTI HIRLAP» и дважды указал на прямые палочки — букву «I».
— Вот и хорошо, вот и умница! Тебе учение будет даваться легко. Когда вырастешь, мамочка тебя в гимназию отдаст. — И Кизела искоса взглянула на Жофи, дружелюбно, но в то же время и сурово: а ты идешь ли на мировую?
Жофи поняла, что эта сцена являла собою официальный протест Кизелы против возведенной на нее клеветы: нет, Кизела никогда не чернила Шанику, напротив! Вот и сейчас именно она обнаружила, как легко он учится. Мальчику нет четырех лет, а он уже знает букву «I». И хотя Жофи не сомневалась, что именно Кизела нашептала почтмейстерше обидные небылицы, все же эта тонкая попытка смягчить ее произвела на Жофи впечатление, и ей тотчас захотелось воспользоваться покладистостью Кизелы и от нее же самой получить утешение. Она знала, что старуха болтает по селу совсем другое, и все-таки желала он нее услышать, что вовсе не такая уж она беззаботная мать.
— А ты скажи, Шаника, сыночек, — потчевала она самое себя стыдливой похвальбой, — скажи, что, если мамочка твоя, даст бог, будет жива, никогда не останешься ты мужиком сиволапым. Скажи: моя мамочка затем и живет еще на свете, чтобы человека из меня сделать. Ее-то жизнь все равно уже кончена, у нее теперь одно на уме — меня выучить, чтобы не копался век свой в грязи, будто червяк.
Жофи ждала: как-то Кизела станет поддакивать ей, довольно ли будет в ее тоне убежденности. А та, словно обрекши себя на полное раболепство, отозвалась с ангельской кротостью:
— Да, лапонька, ты еще не способен понять, какая хорошая мать у тебя. Она ведь не скандалит, как прочие вдовы!
Эта искупительная сцена успокоила обеих. Кизела считала себя очень хитрой и осторожной — «ведь нужно было чем-то заткнуть ей рот!». А Жофи почувствовала, что вправе смотреть на жилицу сверху вниз: «Старуха не смеет обвинять меня прямо в глаза. Оказывается, если в глаза, так я лучшая из матерей, — только за спиной моей злобствует!» Однако под ожесточенным этим удовлетворением пробивалось все же тепло вновь установленного мира, столь необходимого обеим в их мучительной обреченности друг на друга. «Теперь не придется опять укладываться в шесть часов и в жалком стариковском одиночестве метаться полночи без сна. Снова можно вертеть мельницу своих несчастий, снова есть кому слушать меня». «Опять буду молча слушать ее россказни, от которых хоть немного отпускают меня страхи, а тогда уж пусть возвращается в постель ко мне мертвый мой муж».
В тот вечер, несмотря на затаенную ненависть, они были ближе друг другу, чем когда-либо раньше. Жофи показывала старые семейные фотографии и свой портрет в день конфирмации. «Видишь, Жофи, что из тебя стало!» — говорила она этой невинной глупышке с бессмысленно вытаращенными глазами. А взяв в руки свадебную фотографию, вздыхала: бедный мой Шандор, если бы он знал, на что венчается! Этим вечером глаза Жофи выражали мягкую и глубокую печаль, как будто грусть — естественное состояние души и отныне она, Жофи, может навеки в него погрузиться. Кизеле тоже передалось это настроение, захотелось и самой навести порядок в воспоминаниях. Она притащила свою шкатулку и среди пожелтевших писем сестрицы и открыток, которые некогда присылала ей уезжавшая на лето директорша, выудила несколько фотографий Имре. На одной из них он стоял как солдатик, с ружьем на плече и с испуганным видом салютовал фотографу; другой раз его сняли в той самой матросской шапке, в какой помнила его Жофи; здесь это был уже худой, долговязый подросток, так и виделись у него под подбородком красные прыщи.