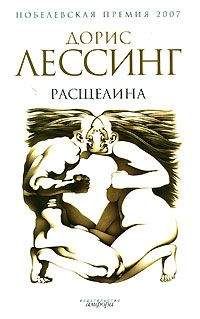Дорис Лессинг - Золотая тетрадь
— Да, ты права, мы сделаем ребенка.
Когда все было кончено, он откатился в сторону, переводя дыхание, воскликнул:
— Честное слово, тогда-то мне и придет конец, ребенок, да ты меня прикончишь этим!
Я сказала:
— Ребенка предлагала родить тебе не я, я — Анна.
Он резко вскинул голову, чтобы на меня взглянуть, потом опять откинулся назад, расхохотался и сказал:
— Да, правда. Это — Анна.
Я пошла в ванную, мне было очень худо, а когда я вернулась, я сказала:
— Мне нужно лечь поспать.
Я легла, отвернулась от него и заснула, чтобы от него уйти.
Но и во сне я шла к нему. Ночь оказалась ночью снов. Я играла роли, одну за другой, моим напарником-противником был Савл, который тоже играл роли. Мы словно были заняты в какой-то пьесе, слова менялись, как будто драматург все переписывал и переписывал одну и ту же пьесу, немного изменяя ее каждый раз. Наш дуэт переиграл все роли, которые вообще можно себе представить в отношениях мужчины с женщиной. Когда очередной цикл сна заканчивался, я говорила: «Что ж, я прожила и это, не так ли, значит, для этого пришла пора». Я словно прожила сто разных жизней. И вот что поразительно, как оказалось, огромное число женских ролей в реальной жизни прошли мимо меня, я либо сама отказывалась их играть, либо мне их не предлагали. Даже во сне я понимала, что я обречена на то, чтобы их сейчас сыграть, именно потому, что я отказывалась от них в жизни.
Утром я проснулась рядом с Савлом. Он был холодным, и мне пришлось его согреть. Я была самой собой, и — сильной. Я сразу направилась к рабочему столу и приготовила эту тетрадь. Я в ней писала очень долго, а он все спал. Должно быть, он успел проснуться и тихо, наблюдая за мной, полежать какое-то еще время прежде, чем я заметила, что он уже не спит. Он спросил:
— Вместо того чтобы вести отчет о моих грехах в своих дневниках, почему бы тебе не написать новый роман?
Я ответила:
— Я могла бы назвать с дюжину причин, почему нет, я могу часами разглагольствовать на эту тему, но настоящая причина заключается в том, что у меня писательский ступор. Вот и все. И это — первый случай, когда я в этом признаюсь.
— Возможно, — сказал он, склоняя набок голову и улыбаясь мне с любовью. Я увидела эту любовь, и это меня согрело.
Потом, когда я улыбнулась ему в ответ, улыбка мгновенно сошла с его лица, оно стало мрачным, и он сказал с горячностью:
— Как бы там ни было, а вот когда я вижу, как ты сидишь тут и тянешь из себя всю эту бесконечную вереницу слов, я начинаю сходить с ума.
— Любой нам скажет, что двум писателям не следует жить вместе. Или, скорее, что американцу с сильным духом состязательности не следует жить с женщиной, которой удалось написать книгу.
— Это верно, — сказал он. — Это ставит под вопрос мое превосходство по половому принципу, а это вам не шутки.
— Я знаю, что не шутки. Но только, пожалуйста, не вздумай мне впредь читать свои помпезные социалистические лекции про равенство мужчин и женщин.
— Вероятно, я все же стану тебе читать помпезные лекции, потому что мне это делать нравится. Но сам я не стану верить в них. Честно говоря, меня сильно задевает то, что ты написала книгу, которая имела такой успех. И я прихожу к выводу, что я всегда был лицемером и что мне на деле нравится общество, в котором женщины — граждане второго сорта, мне нравится быть боссом, мне нравится, когда мне угождают.
— Вот и хорошо, — сказала я. — Потому что в обществе, где больше чем один из десяти тысяч мужчин станет понимать, в чем именно женщины являются гражданами второго сорта, нам придется рассчитывать лишь на компанию мужчин, которые хотя бы не лицемеры.
— Ну а теперь, когда мы с этим разобрались, ты можешь сварить мне кофе, потому что в этом — твое главное предназначение.
— С превеликим удовольствием, — сказала я, и мы позавтракали вместе, болтая добродушно, в то утро мы очень нравились друг другу.
После завтрака я взяла свою корзину для покупок и пошла вдоль Эрлз-Корт-роуд. Я с удовольствием выбирала продукты, заполняла корзину всякой всячиной, я наслаждалась мыслью, что потом, дома, я буду готовить для него еду. И вместе с тем мне было грустно, я понимала, что это не продлится долго. Я думала: «Скоро он уедет, и тогда все кончится, настанет конец той радости, которую испытываешь, когда заботишься о мужчине». Я могла уже идти домой, я все купила, а я все стояла и стояла на углу, под тонкой серой моросью дождя, в толчее раскрытых зонтиков и проталкивающихся сквозь толпу тел и не понимала — а чего я жду? Потом я перешла улицу и вошла в канцелярский магазин, а там направилась к прилавку, на котором были разложены тетради. Там были тетради, похожие на те четыре, которые есть у меня. Но они были не тем, что мне было нужно. Я увидела большую толстую тетрадь, довольно дорогую, и я ее раскрыла, листы в ней были из нелинованной бумаги — хорошей, плотной, белой. Эту бумагу было приятно трогать, она была немного грубоватой, но шелковистой. У тетради была толстая тяжелая обложка, тускло-золотого цвета. Я никогда не видела такой тетради, и я спросила у продавщицы, каково ее предназначение, и продавщица мне ответила, что тетрадь сделана по специальному заказу одного клиента, американца, который так и не пришел за ней. Он внес задаток, поэтому тетрадь теперь была дешевле, чем я подумала сначала. Она все равно стоила немало, но я ее хотела, и я ее купила и принесла к себе домой. Мне приятно к ней прикасаться, на нее смотреть, хотя я и не знаю, зачем она мне нужна.
Савл пришел в мою комнату, он начал беспокойно расхаживать по ней кругами, словно выискивая что-то, потом он заприметил новую тетрадь и налетел на нее ястребом.
— Ой, до чего красивенькая, — сказал он. — А зачем она тебе?
— Пока не знаю.
— Тогда отдай ее мне, я ее хочу, — сказал он.
Я почти ответила: «Хорошо, бери», я чувствовала себя китом, который почти неудержимо хочет выпустить из себя струю воды. Я рассердилась на саму себя, потому что я так хотела иметь эту тетрадь и чуть было не отдала ее ему, по первому же его требованию. Я понимала, что эта потребность подчиняться, угождать — часть садомазохистского цикла, в котором мы с ним пребываем. Я сказала:
— Нет, ты ее не получишь.
Мне крайне нелегко далась эта фраза, я даже заикалась, когда произносила эти слова. Он взял тетрадь со стола и сказал, смеясь:
— Дай мне, дай мне, дай мне. Дай-дай-дай.
Я ответила:
— Нет.
Он ожидал, что я ее отдам, к отказу он готов не был, ведь он так шутя, по-детски произнес это «дай-дай-дай», и теперь он замер, поглядывая искоса на меня и бормоча: «Дай мне, дай-дай-дай» детским голоском, и ему было уже явно не до смеха. Он стал ребенком. Я видела, как новая или, точнее, старая его личность заходит в него подобно пробирающемуся в чащу зверю. Его тело гнулось, изгибалось, превращалось в оружие; его лицо, такое оживленное, умное, скептичное, когда он «в себе», стало лицом маленького убийцы. Он резко развернулся, как хлыстом ударил, прижал к груди тетрадь, он был готов выскочить вон из комнаты; (19*) и я отчетливо его увидела: дитя трущоб, мальчишка из детской шайки, вот он хватает что-то с прилавка в магазине или со всех ног бежит, пытаясь ускользнуть от полицейских. Я сказала: «Нет, нельзя», как я сказала бы ребенку, и он пришел в себя, не сразу, постепенно, все напряжение его оставило; он положил тетрадь на стол, с какой-то даже благодарностью, стал снова добродушным и спокойным. Я подумала: как странно, ведь ему нужен кто-то, кто умеет властно говорить «нет», а при этом его занесло именно в мою жизнь, в жизнь человека, которому так трудно дается это слово. Ведь теперь, когда я его произнесла и Савл положил на стол тетрадь, в каждом изгибе его тела, в каждой черте его лица просматривался обездоленный ребенок, у которого только что отобрали то, что было ему очень нужно, я сразу почувствовала себя больной, мне очень захотелось сказать ему: «Возьми ее, ради всего святого, это все неважно». Но теперь я уже не могла этого сказать, и меня напугало то, как быстро этот незначительный предмет, хорошенькая новая тетрадь, стал предметом спора, частью нашей битвы.