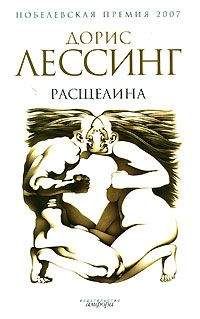Дорис Лессинг - Золотая тетрадь
— Тебе не кажется в высшей степени странным, что мы оба — люди, чьи личности, что бы за этим словом ни стояло, достаточно объемны, чтобы вмещать в себя самые разные вещи, политику, литературу и искусство, но сейчас, когда мы сумасшедшие, все сводится к одной-единственной детали, а именно — я не хочу, чтобы ты уходил отсюда и спал с кем-то еще, а ты постоянно должен мне врать на эту тему?
На мгновение Савл стал самим собой, он задумался над тем, что я сказала, а потом он покрылся рябью, растаял в воздухе, появился мой вороватый антагонист и мне сказал:
— Ты не заманишь меня в эту ловушку, даже и не думай.
Он ушел наверх, а когда снова спустился через несколько минут, жизнерадостно сказал:
— Ну и ну! Так я и впрямь могу опоздать. До встречи, малышка.
Он ушел, забрав меня с собой. Я физически ощущала, как часть меня покинула мой дом вместе с ним. Я знала, как он идет. Он, спотыкаясь, быстро сбежал вниз по лестнице, на секунду замер, прежде чем решиться покинуть дом, потом он осторожно вышел на улицу, походкой человека, готового обороняться, так ходят все американцы, так ходят люди, всегда готовые обороняться, он шел, пока не заприметил скамейку или, может быть, ступени, куда он и присел. Он оторвался от своих демонов, оставил их в моей квартире, хоть на какое-то, пусть и недолгое, время он от них освободился. Но я ощущала, как от него исходит холод одиночества. Холод одиночества заполнил все пространство, окружавшее меня.
Я посмотрела на эту тетрадь и подумала, что, если я смогу в ней писать, Анна вернется, но я не могла заставить себя протянуть руку и взять ручку. Я позвонила Молли. Когда она мне ответила, я поняла, что не смогу донести до нее то, что со мною происходит, что я не могу говорить с ней. Ее голос, как всегда жизнерадостный и практичный, звучал как кряканье какой-то непонятной птицы, и я услышала свой собственный голос, жизнерадостный и пустой.
Она спросила:
— Как твой американец?
А я ответила:
— Хорошо.
И я спросила:
— А как Томми?
Она сказала:
— Он только что подписался прочесть цикл лекций, он будет их читать по всей стране, лекции о шахтерской жизни, понимаешь ли. Жизнь Шахтера.
— Прекрасно.
— Вот-вот. Одновременно он поговаривает о том, что собирается отправиться сражаться в Алжир или на Кубу. Вчера их тут собралась целая орава, они все говорят, что надо куда-то ехать, надо биться, неважно, где какая революция, лишь бы революция.
Я сказала:
— Его жене это не понравится.
— Да, именно это я и сказала Томми, когда он, весь такой агрессивный, против меня восстал, предполагая, что я стану его удерживать. «Удерживать тебя буду не я, а твоя маленькая здравомыслящая женушка, — сказала я. — Считай, что я тебя уже благословила, — сказала я, — неважно — что за революция и где, поскольку совершенно очевидно, что для всех нас невыносима та жизнь, которую мы здесь ведем». Он ответил, что я настроена крайне негативно. Позже он позвонил мне, чтобы сказать, что, к сожалению, не сможет прямо сейчас отправиться сражаться, потому что он будет читать цикл лекций о Шахтерской Жизни. Анна, скажи мне, только я одна все это так воспринимаю? Мне кажется, что я живу внутри какого-то немыслимого фарса.
— Нет, не ты одна.
— Я знаю. И — тем хуже.
Я положила трубку аппарата. Отделявший меня от кровати пол вздымался и раздувался. Стены, казалось, втягивались внутрь комнаты, отделялись и уплывали прочь, в открытое пространство. На какое-то мгновение я осталась стоять в пустом пространстве, стен больше не было, я словно бы парила над разбомбленными зданиями. Я знала, что мне нужно добраться до кровати, поэтому я осторожно к ней пошла по вздыбленному полу. Дошла, легла. Но меня, Анны, там не было. А потом я заснула, хотя, когда я еще только уплывала, я уже знала, что это — не обычный сон. Я видела лежащее в кровати тело Анны. Я отступила немного в сторону, я наблюдала, мне было интересно, кто же сюда придет. Вежливо улыбаясь, вошла Мэрироуз, хорошенькая девушка, с личиком в ореоле светлых волос. Потом — Джордж Гунслоу, и миссис Бутби, и Джимми. Все эти люди остановились, посмотрели на Анну и отошли. А я стояла чуть поодаль и с интересом думала: «Кого же из них она примет?» Потом же я почуяла опасность, потому что вошел Пол, а он был мертв, и я увидела, с какой смертельно серьезной и многозначительной улыбкой он склоняется над Анной. Потом он начал в Анне растворяться, а я, крича от страха, стала пробиваться сквозь толпу индифферентных призраков к кровати, к Анне, к самой себе. Я билась, чтобы снова в нее войти. Я билась с холодом, с ужасным холодом. Мои руки и ноги оцепенели от холода, и Анна была холодной, потому что ее заполнил мертвый Пол. Я видела его холодную, смертельно серьезную улыбку на лице Анны. После упорной битвы, а это было битвой за мою жизнь, я проскользнула в саму себя, и я лежала холодная, холодная. Во сне я снова оказалась в «Машопи», но теперь все призраки были расставлены вокруг меня в строгом порядке, как звезды — каждая на своем месте, и призрак Пола был среди них, он был одним из них. В пыльном лунном свете мы сидели под эвкалиптами, запах сладкого разлитого вина щекотал нам ноздри, а огни отеля светили нам через дорогу. Это был уже обычный сон, и я знала, что, раз я могу его видеть, я избавлена от полного распада. Этот сон растаял и обернулся обманчивой болью ностальгии. Продолжая спать, я себе сказала: держись, не распадайся на куски, ты справишься, если ты сможешь добраться до синей тетради и начать в ней писать. Я ощущала инертность своей руки, холодной, неспособной взять ручку. Но вместо ручки там вдруг оказалось ружье. И я была не Анной, а солдатом. Я чувствовала, что на мне форма, но я ее не узнавала. Я стояла где-то, прохладной ночью, за моей спиной бесшумно двигались солдаты, они готовили еду. Я различала тихий звон металла, солдаты составляли ружья в козлы. Где-то передо мной был враг. Но я не знала — кто мой враг, не знала, за что я сражаюсь. Я увидела, что моя кожа — темная. Сначала я подумала, что я африканец или негр. Потом я различила темные поблескивающие волоски на моей бронзовой руке, сжимающей ружье с бликами лунного света на металле ствола. Я поняла, что я в Алжире, стою на склоне холма, я — алжирский солдат, и я сражаюсь с французами. Вместе с тем в голове этого солдата продолжал свою работу мозг Анны, и Анна думала: «Да, я буду убивать, я даже буду пытать людей, потому что это мой долг, но делать это я буду без всякой веры. Потому что больше невозможно в чем-то участвовать, сражаться, убивать, не понимая, что это лишь рождает новую тиранию. И все же необходимо сражаться и участвовать». Потом же разум Анны угас, подобно пламени свечи, погасшей от порыва ветра. Я была алжирцем, верящим, исполненным мужества веры. Ужас вошел в мой сон, потому что Анне снова грозил полный распад. Ужас выхватил меня из сновидения, я перестала быть часовым, стоящим в карауле, в лунном свете, пока его товарищи тихо хлопочут за его спиной, готовя себе пищу на кострах. Я оттолкнулась от сухой, пропахшей солнцем земли Алжира и оказалась в воздухе. Я летала во сне, и так давно мне делать этого не доводилось, что я чуть было не заплакала от счастья, какое это счастье, я снова во сне летаю. Суть таких полетов — это радость, радость легкого свободного движения. Я была высоко в небе, над Средиземноморьем, и я знала, что я могу отправиться куда угодно. Я себе велела лететь на Восток. Я хотела в Азию, хотела навестить крестьянина. Я летела невероятно высоко, подо мною проплывали моря и горы, я легко взбегала вверх и вперед по воздуху, быстро, невесомо ступая по нему. Я пролетела над огромными горами и оказалась над Китаем. Во сне я себе сказала: «Я здесь, потому что я хочу быть крестьянином, хочу быть среди других, таких же, как и я, крестьян». Я опустилась над деревней, увидела крестьян, работающих в поле. В их действиях читалась суровая целеустремленность, это меня к ним влекло. Я приказала своим ногам мягко опустить меня на землю. Радость этого сна была насыщеннее, ярче всего того, что доводилось мне раньше испытывать во сне, и эта радость была радостью свободы. Я спустилась на древнюю землю Китая, увидела крестьянку, стоящую у двери своей лачуги. Я подошла к ней, и, точно так же, как Пол, склоняясь, стоял совсем недавно над спящей Анной, стремясь стать ею, так и я стояла возле той крестьянки, стремясь в нее войти, стать ею. Это оказалось просто сделать. Она была молода, она была беременна, однако тяжелый труд уже начал делать свое дело, ее старить. Потом я осознала, что мозг Анны продолжает работать в этой женщине, в нем проносились механистические мысли, которые я сама классифицирую как «прогрессивные и либеральные». Я думала, что эта крестьянка представляет собой то-то и то-то, ее сформировало такое-то движение, такая-то война, такой вот опыт, я, посторонняя ей личность, навешивала на нее ярлыки. А потом разум Анны, как это было и на склоне холма в Алжире, начал мерцать и пропадать, угас. И я себе сказала: «Не дай ужасу перед полным растворением отпугнуть тебя и в этот раз, держись». Но ужас оказался слишком сильным. Он вытащил меня из крестьянки, я оказалась рядом с ней, я наблюдала, как она пошла через поля к работавшим там женщинам и мужчинам. Все они были одинаково одеты, их одежда была похожа на униформу. Теперь ужас уничтожил всю радость, мои ноги не слушались меня, они отказывались легко ступать по воздуху. Я отчаянно пыталась оттолкнуться от воздуха и полететь, пыталась перебраться через отделявшие меня от Европы черные горы; Европа же с того места, где я находилась, казалась крошечной ненужной бахромой, пришитой на краю огромного континента, болезнью, в которую я собиралась вновь вернуться, окунуться. Но я не могла взлететь, я не могла покинуть ту равнину и возделывающих ее землю крестьян, и страх, что я останусь там как в капкане, заставил меня проснуться. Я проснулась, дело уже клонилось к вечеру, комната заполнялась тьмой, транспорт ревел под окнами. Я проснулась другой, меня изменил опыт, мне довелось побыть другими людьми. Мне было наплевать на Анну, мне не хотелось ею быть. Из чувства долга я снова стала опостылевшей мне Анной, словно надела заляпанное жиром платье.