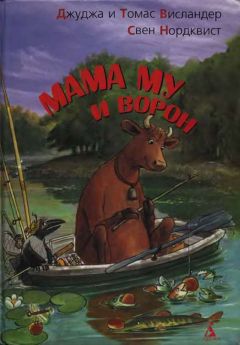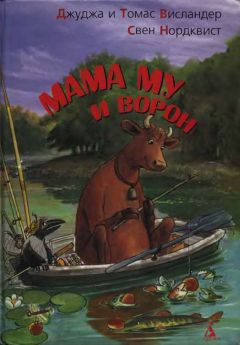Почтовая открытка - Берест Анна
— Всех в один день! Вот он, безумный размах антисемитской мечты: арестовать всех евреев Европы одновременно, в один и тот же час!
— Однако осуществить задуманное оказалось сложнее. Седьмого июля сорок второго года в Париже была организована встреча представителей двух стран. Немцы изложили свой план. Французам предстояло претворить его в жизнь. В рамках этой операции среди прочего планировалось отправлять по четыре эшелона в неделю, по тысяче евреев в каждом. То есть на восток отправлялись шестнадцать тысяч евреев ежемесячно, цель — выполнить за один квартал план депортации из Франции первого контингента в сорок тысяч евреев. Я не ошиблась: первого контингента — потому что на сорок второй год была поставлена задача депортировать из Франции сто тысяч евреев. Назавтра после этой встречи командование жандармерий в различных департаментах Франции получило следующий приказ — я читаю тебе циркуляр так, как он был написан: «Все евреи в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет включительно, обоих полов, польского, чехословацкого, русского, немецкого и ранее австрийского, греческого, югославского, норвежского, голландского, бельгийского и люксембургского подданства, а также лица без гражданства подлежат немедленному аресту и депортации в транзитный лагерь Питивье. Не подлежат аресту евреи, признанные по внешним признакам калеками, а также евреи — выходцы из смешанных браков. Все аресты должны быть завершены до двадцати ноль-ноль тринадцатого июля. Арестованные евреи должны быть доставлены в транзитный лагерь к двадцати ноль-ноль пятнадцатого июля — это крайний срок».
— Тринадцатое июля — день ареста детей Рабиновичей. Ноэми девятнадцать лет, и она подходит под их критерии. Но Жак? Ему всего шестнадцать с половиной, а ведь в документе указано восемнадцать, — вообще-то администрация должна соблюдать правила.
— Совершенно верно. Ты права. Жака, по идее, не должны были брать. Но у Французского Государства своя проблема. В некоторых департаментах количество евреев, подлежащих депортации, недотягивало до установленного немцами плана. Помнишь, что я тебе говорила? В эшелоне — тысяча евреев, четыре состава в неделю. И так далее. Поэтому отдается неофициальный приказ о расширении возрастных рамок для арестуемых евреев — до шестнадцати лет. Думаю, именно так Жак оказался в списке.
— А Мириам? Что было бы с ней, если бы она в тот вечер вышла к немцам?
— Забрали бы вместе с братом и сестрой, чтобы выполнить…
— …Поставленный план.
— Но в тот вечер она не значилась в их списке, потому что незадолго до этого вышла замуж. Вот она, ниточка случая, на которой висит жизнь каждого из нас.
Глава 25
Прижавшись друг к другу, Ноэми и Жак сидят на заднем сиденье полицейской машины, которая следует в неизвестном направлении. Жак положил голову на плечо сестры, закрыл глаза и вспоминает их давнюю игру: подбирать целые группы слов на одну и ту же букву, в самых разных категориях. Спорт, великие битвы, герои. Ноэми держит в одной руке ладонь брата, в другой — чемодан. Она перебирает в уме все, что в спешке забыла взять: помаду «Розат» для увлажнения губ, кусок мыла, любимую бордовую кофту. Зря Жак уговорил ее взять флакон лосьона для волос «Петролан», он только занимает место.
Она прижимается щекой к окну и смотрит на улицы деревни, которую знает вдоль и поперек. В этот праздничный вечер ее ровесники собираются на танцы, вот они идут небольшими компаниями. Фары автомобиля высвечивают ноги и тела. Но не лица. Может, так и лучше.
Ноэми решает, что это испытание сделает ее писательницей, — да, когда-нибудь она все опишет. Она всматривается, стараясь запомнить каждую деталь: вот девушки идут босиком, держа в руках лакированные туфельки, чтобы не стоптать их о камни на дороге, и, стиснутая корсажем, волнуется молодая грудь. Ноэми расскажет о парнях, которые катят перед девушками велосипеды и для потехи то замычат, то затрубят, как осел. Набриолиненные волосы блестят в лунном свете. Теплый воздух сулит объятия и танцы, и юность кружит голову, хмельную от всплесков музыки, которую доносит июльский ветер. Плотный, пахучий ветер летнего вечера.
Полицейская машина выезжает из деревни в сторону Эврё. На краю леса из кустов, высвеченная фарами, словно застигнутая на месте преступления, показывается пара. Они держатся за руки. Ноэми больно на них смотреть. Она словно угадывает, что ей такого уже не выпадет.
Машина скрывается за деревьями, тишина ложится на дорогу, потом на дом, где теперь остались только скованные страхом Эфраим и Эмма. Тишина заполняет и сад, где прячется Мириам. Она ждет — может быть, что-то еще случится, но что именно?
Как-то, много позже, в середине 1970-х годов, сидя в жаркий полдень в кабинете стоматолога в Ницце, Мириам вдруг поймет, чего она ждала тогда, лежа в сяду. Внезапно вспомнится то долгое затишье. Трава у самых губ. И страх, сжимающий все внутри. Да, она надеялась, что отец изменит свое решение. Возьмет и передумает. Выйдет к ней и попросит поехать вместе с Жаком и Ноэми.
Но Эфраим решил раз и навсегда: он говорит Эмме, что надо закрыть ставни и спокойно лечь спать. Этот дом не должен поддаться панике.
— Страх толкает людей совершать ошибки, — говорит он и задувает свечи.
Мириам видит, что родители закрывают ставни своей комнаты. Она еще немного ждет. И когда девушка понимает, что никто не придет и не схватит ее в этом саду, под покровом ночи, она забирает отцовский велосипед, хотя он для нее и великоват. Сжав пальцами руль, Мириам чувствует, как на ее руки, ободряя и поддерживая, ложатся ладони Эфраима, и весь велосипед становится телом отца, с его стройным и крепким костяком, прочными и гибкими мускулами, которые всю ночь будут нести его дочку до самого Парижа.
Она верит в удачу, она знает, что должна воспользоваться покровом темноты и, главное, леса, чья добрая сень никого не осуждает и укрывает всех беглецов. Родители столько раз рассказывали ей о своем бегстве из России, об эпизоде с отцепившейся телегой. Бежать, выпутываться — это она умеет. Вдруг на обочине Мириам видит очертания какого-то животного и резко тормозит. Она останавливается — перед ней труп мертвой птицы, черная кровь вперемешку с раскиданными перьями. От зрелища смерти становится тревожно, как от дурного предзнаменования. Мириам укрывает лесной землей плотное, еще теплое тело, затем шепотом читает строки на арамейском, которым научил ее Нахман в Палестине, это кадиш скорбящих, и только произнеся ритуальные слова, она обретает силы снова пуститься в путь. Дочь птицы, она летит по узким тропинкам, прячется на опушках леса, пробираясь ловко, как звери, что встречаются ей на пути, — с ними она не одна, они — соучастники ее побега.
С первой дрожью воздуха, с первыми радужными проблесками зари Мириам наконец видит Зону Парижа. Она почти у цели.
— Так называемая Зона, — объясняет мне Леля, — изначально представляла собой огромный пустырь, окружавший Париж. Эспланада, простреливаемая в случае обороны французской артиллерией. Застройке не подлежит. Но постепенно здесь пустила корни нищета и все изгои столицы: типичные отверженные Гюго, семьи с кучей детей — все, кого вытеснили из центра Парижа масштабные стройки барона Османа, теперь ютились здесь в лачугах, деревянных хижинах или вагончиках, в сараях, тонущих в грязи и тухлой воде, в кое-как сбитых домиках. Здесь у каждого квартала была своя специализация: тряпичники селились в Клиньянкуре, уличные попрошайки в Сент-Уане, цыгане — в Леваллуа, обивщики мебели — в Иври, а еще — ловцы крыс, поставлявшие грызунов для опытов в лаборатории на набережных Сены. Собиратели белого помета сдавали его килограммами перчаточникам, а те использовали для отбелки кожи. В каждом квартале была своя община: итальянцы, армяне, испанцы, португальцы… Но всех их звали зонщиками или зонарями.
В час, когда Мириам проезжает сквозь черный пояс Зоны, здесь спокойно. В этом месте нет воды и электричества, зато много юмора: местные жители, растущие среди плесени, дают своим переулкам самые невероятные названия, скрещивают французское «рю» (улица) со всем, что угодно, и получается то улица Рюмка, то улица Рюшка, то Рюбенс, а то и Святая Рюсь. Шесть утра: питомцы Зоны закончили ночную работу, рабочие и ремесленники начинают трудовой день, наступает конец комендантского часа для тех, кто трудится в темцо-синих мундирах с галунами; на рассвете они отправляются в столицу, мечтая о кофе со сливками. Вместе с ними Мириам ждет, когда откроется застава — ворота Парижа, и едет вперед, затесавшись в толпу велосипедистов, которые старательно соблюдают правила движения на столичных улицах. Нельзя выпускать из рук руль. Нельзя совать руки в карманы. Нельзя убирать ноги с педалей. Уступать дорогу транспортным средствам с номерными знаками WH (наземные войка вермахта), WL (воздушные войска), WM (флот вермахта), SS (СС) или POL (полиция).