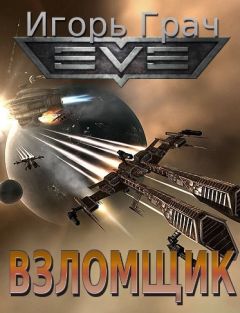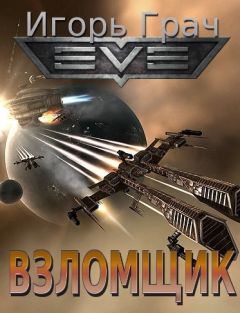Взломщик устриц - Дюран Жаки
В приступе энтузиазма я спрашиваю у хозяина кафе, не сдает ли кто-нибудь комнату. Люди за барной стойкой оживляются, потом об этом говорит весь дом, потом вся улица. Один мужчина подходит ко мне, протягивает запястье, которое я трясу в приветствии, потому что руки у него выпачканы белой краской. Он сдает комнату на последнем этаже над собственной мастерской. Можно пойти посмотреть. Я несколько оглушен тем, как стремительно развиваются события. Жизнь кажется такой простой, главное — решиться. Комната на седьмом этаже, туда ведет прекрасная деревянная лестница, которая становится все уже и уже. Хозяин говорит, что он столяр, и сразу переходит на «ты».
— Увидишь, у нас по-простому, но чисто.
Комната находится в самом конце коридора, там же и туалет. Как будто мы на корабле, из фильма «Краб-барабанщик» [85], так тут узко. Место есть только для кровати и приставленного вплотную к стене стола. Чтобы сесть за стол, надо перешагнуть через стул. Обстановку дополняют умывальник и платяной шкаф. Через форточку пробивается солнечный луч, ласкающий покрывало в цветочек. Приятно пахнет мастикой. Я мысленно проделываю путь из этого курятника вниз, на улицу. Здесь я чувствую себя свободным, немного отшельником. Хозяину чек не нужен, а если я заплачу наличными, то могу не давать задаток. Я протягиваю ему купюры. Теперь я у себя дома. Забираюсь с ногами на кровать, чтобы взглянуть в окно на старую черепицу бесконечно тянущихся домов. На трубе каркают вороны. Я несусь на улицу, быстро иду к мосту Баттан, под которым коричневеют воды Ду. Гуляю по набережной, дохожу до парка Шамар. Сажусь под деревьями и отрезаю себе кусочек колбасы. Я еще никогда так не ел — один, прислонившись к стволу, слушая, как в отдалении урчат машины. Здесь мне ни на секунду не приходит в голову мысль об Элен, хотя, наверное, и она тут бывает. Я привыкаю к городу, хрустя сухарями.
Во второй половине дня я иду записываться на филфак на улице Межван. Здесь пахнет старыми книгами и натертым воском паркетом. У меня в кармане аттестат и черная ручка, чтобы заполнить документы. Я выпиваю пару пива в университетском баре, и меня еще больше охватывает энтузиазм: я — одинокий корсар. Вечером я трачу пятифранковую монетку, звоню тебе. Да, отныне я студент, да, в отеле буду ночевать, ты же понимаешь, комнату найти далеко не просто. Нет, не знаю, когда приеду домой. Я чувствую, что ты расстроен. Ты снова говоришь мне, чтобы я не оставлял деньги в номере, потому что «никому нельзя доверять». Я вешаю трубку и смеюсь.
В аудиторию в виде амфитеатра я вхожу одним из последних. На лестнице у меня кружится голова. Я сажусь на последний ряд. Тут в основном девушки. Мне это непривычно после нашего класса грубых металлургов. У некоторых девчонок на ногтях лак. Все мне кажется утонченным.
Преподаватель — рыжеволосый мужчина в костюме. Он с нами здоровается, как будто мы расстались накануне. Раскрывает красную кожаную папку и начинает читать лекцию. Речь идет о «Сиде» Корнеля. Я ни слова не понимаю из того, что он рассказывает, ни разу не остановившись. Его слова теряются в невыносимом шушуканье зала. Я не в состоянии конспектировать. И завидую высокому брюнету, который сидит передо мной и исписывает страницу за страницей. Слева от меня смеются, перешептываясь, две девицы. Одна из них проводит по волосам, намекая, что на преподавателе якобы надет парик.
Я спрашиваю себя, что я тут забыл. Вспоминаю о высоких облетающих деревьях в парке Шамар, об осенних грибах. Представляю, что мы сидим с Габи в грабовой аллее под орешником. Он бы говорил мне, что рад, что я выбрал Безансон, потому что этот город — средоточие социалистов-утопистов и здесь жил Шарль Фурье [86]. Он бы рассказывал о забастовке часовщиков в мастерских «Лип» в 1973 году, о боях боксера Жана Жослена, выходца из простой безансонской семьи, ставшего чемпионом Франции и Европы во втором полусреднем весе в шестидесятых годах. В Далласе в 1966 году он чуть не стал чемпионом мира. Мы бы с Габи нашли целую поляну лисичек. Пришла бы Мария и села бы на колени к «своему мужчине». Мне стало бы хорошо.
Я брожу с подносом по университетской столовой. Не осмеливаюсь сесть рядом с остальными студентами. Кружу по залу, пока наконец не освобождается стол. Меня тошнит от запаха хлорки и покупного бульона. Пюре холодное, говядина с жилками, у подливки вкус пережаренного мяса. С этого дня я решил ходить обедать к себе в курятник, питаясь в основном тюрей из чудесного темного оливкового масла с круглым ржаным хлебом, который я покупал в арабской лавке на улице Баттан. А еще делал себе бутерброды с хариссой, жгучий перец — лучшее средство от хандры. Еще у меня на столе всегда стоит миска с миндалем, который я грызу, пытаясь хоть что-нибудь понять в «Сиде». Корнель для меня — как китайская грамота. В его словах от меня ускользает смысл, ускользают чувства. Если бы меня увидели мои приятели-металлурги, то сказали бы, что я «фигней занимаюсь».
Как-то в октябре во второй половине дня к нам в аудиторию вошел какой-то кучерявый верзила с орлиным профилем, в черном плаще. Он прогулялся по рядам, а потом мучил нас два часа, ни разу не посмотрев в бумажки. Он сказал, что университету надоело выпускать специалистов, которые только и способны, что повторять, как попугаи, то, что им читали преподаватели. И предупредил, что с ним так дело не пойдет, что у него мы научимся мыслить и писать свободно. Меня это выбило из колеи. Я убеждал себя, что Габи думает так же, как этот человек, что в другой жизни Габи тоже мог бы быть специалистом по сравнительному литературоведению. Я заложил своего «Бокюза» закладкой, где записал названия книг, которые он дал нам на год: «Сон в летнюю ночь», «Наоборот» Гюисманса, сочинения немецких романтиков и Фасбиндера. Это единственный преподаватель, который не заставляет нас читать свои собственные опусы. Я сравниваю его с тобой: ни поварской книги, ни домашних работ, он только смотрит и слушает, ведет нас сквозь лабиринт, как нить Ариадны.
Я набираюсь храбрости в День всех святых [87]. За окном иней. Внизу в кафе я выпиваю кофе. От готовящегося на кухне кускуса запотевает плитка. Хозяин протягивает мне миндаль и финики, потому что я ужасно простужен. Старый обогреватель у меня в комнате сдох. Я спал, надев на себя все свитера, которые у меня были. Я обещал отцу, что приеду первого ноября, но постоянно тяну время. Когда я сел в поезд на Безансон, моя жизнь перестала быть прежней. Вместо пятифранковой монетки я опустил в телефон-автомат однофранковую, настолько мне нечего ему сказать. У меня еще есть монетки, но, когда разговор прерывается, я не перезваниваю, чтобы не отвечать на твои бесконечные вопросы. Что я ем? Не холодно ли мне? Сложно ли учиться? Мне хочется заорать: «Отстань, ты мне не мать!»
Народ валит на мессу в церковь Святой Магдалены. Я пересекаю Ду, из-за осенних дождей вода в реке стоит высоко. Роюсь в кармане, хочу купить себе пачку табака. План города мне не нужен — я знаю, где ее улица, хотя никогда еще сюда не приходил. Я представляю себе, как выглядит ее район, булочная, мясная и цветочная лавки — наверное, она постоянно в них заходит, — киоск, в котором она, вероятно, покупает себе газету «Монд» и пачку ментоловых сигарет. Я иду по мокрой мостовой и представляю себе сначала ее высокие коричневые сапоги, потом бежевое пальто и шейный платок, по которому рассыпались ее темные волосы. Чем ближе я подхожу к ее дому на четной стороне улицы, тем больше вжимаюсь в стены. Я боюсь, что встречу ее, поэтому держусь поближе к подворотням на случай, если она появится.
Ее адрес — это дом с закрытыми воротами и высокими стенами, по которым вьется дикий виноград. Я отступаю на шаг, чтобы посмотреть на фасад, и вижу, что она живет в бывшем частном особняке, каких много в историческом центре Безансона. Пытаюсь толкнуть дверь, но та не открывается. На дверном косяке — ряд бронзовых звонков, под одним из них написана фамилия из телефонного справочника. Я дотрагиваюсь до звонка, но не знаю, буду ли звонить. Решаю прогуляться по району и присаживаюсь на лестницу у музыкального магазинчика на площади Гранвель. Голые деревья тают в слабом свете солнца. Я вытаскиваю «Заблуждения сердца и ума» Кребийона-сына и пытаюсь читать. Говорю себе: вот прочитаю десять страниц и пойду обратно к дому, это мое привычное волшебное заклинание. Слышу детский голос и вздрагиваю. А вдруг она сюда ходит гулять со своим ребенком? Бегом прячусь за дерево. Проходят девчушка и молодая блондинка. Церковный колокол бьет одиннадцать, я заканчиваю главу. Сую руки в карманы, сжимаю кулаки и размашисто иду к дому. Ворота открыты, и я вижу мощеный дворик с горшками, в которых растет самшит. Три крыла дома поблескивают высокими окнами. У главного входа припаркована машина немецкой марки.