Фредерик Бегбедер - Французский роман
От научной фантастики меня потянуло к детективам, что неудивительно: интрига там и там примерно одна — расследования, погони, загадки личности, разоблачения… Замените космические скафандры на серые плащи, а «сому» Хаксли[50] на «Джек Дэниеле», и готово: из научной фантастики вы перенеслись в детектив. Моим бесспорным предпочтением пользовался Джеймс Хедли Чейз, хотя с не меньшим интересом я разглядывал обложки серии SAS[51] — правда, совсем по другим причинам. Самым занимательным автором оказался Картер Браун: простой язык, стремительные диалоги, короткие описания и обилие нецензурных выражений.
Однажды мой дядя Дени Манюэль застал меня за чтением Картера Брауна и дал между двумя глотками виски совет, перевернувший всю мою жизнь: «Почитай Сан-Антонио. Я сам читаю только его, потому что все остальное — скукотища. И брось переводные книжки, читай парней, которые пишут на твоем языке. Сюжет — фигня, главное — автор». Я глубоко уважал Дени, считая, что в нашей семье он самый smart[52]; мне нравилась его невозмутимая насмешливость, его сигары и легкая сутулость, скопированная с JFK[53]. Шарль Бегбедер-старший тоже верил в литературу, но он слишком мало прожил, чтобы успеть передать мне свою страсть; что касается моего отца, то он наотрез отказывался прикасаться к современным романам; для него литература закончилась на Диккенсе и Роже Мартен дю Таре. Он слишком высоко поднял планку, не только запретив себе читать что-то новое, но даже изничтожив всякий позыв к этому. Так что роль пускового механизма в итоге сыграл первый муж моей тетки и крестной матери Натали де Шатенье.
Я бросился в книжную лавку Гетари и нашел на вертящейся стойке «Бейсбол в Ла-Боле». Какой фейерверк! Авторские отступления, скабрезные каламбуры, намеки на Жана д’Ормессона, Робера Оссеина[54], Франсуа Миттерана, поток бреда из уст Берюрье, галерея уморительных персонажей, бунтарей и похабников, — эта причудливая мешанина шибала по мозгам, но была правдива, достоверна и человечна. Дени был прав: сюжет для романа — не более чем предлог, канва, главное — человек, стоящий за текстом, личность, которая ведет рассказ. До сих пор я так и не нашел лучшего определения для литературы, чем возможность услышать человеческий голос. Изложение истории — не цель, и персонажи просто помогают выслушать кого-то другого, кто может оказаться моим братом, моим ближним, моим другом, моим предком, моим двойником. В 1979-м Сан-Антонио подвел меня в Блондену, потом Блонден подвел к Селину, а Селин — к Рабле, то есть к целой вселенной. Передо мной открылся новый мир, параллельная галактика, и попасть в нее можно было не покидая спальни. Теперь-то вы понимаете, каким рискованным путем я пришел к литературе правого толка, которой восхищался мой дед, хотя мы ни разу с ним об этом не говорили! Однако на самом деле все просто: книги этих авторов были занимательнее, чем сочинения Сартра и Камю (что, кстати, вранье: см. «Слова» и «Падение»). Как мне жаль, что Дени Манюэль умер в 45 лет от рака легкого; я так и не успел сказать ему спасибо за то, что он изменил всю мою жизнь. Но все мои страхи тоже на его совести: он заразил меня вирусом, от которого нет лекарств. Счастье быть отрезанным от мира — вот первая зависимость, в которую я попал. Чтобы бросить читать романы, нужна огромная сила воли. Надо иметь желание жить, бегать, расти. Я подсел на наркотик раньше, чем мне разрешили одному выходить по вечерам из дома. Книги интересовали меня больше, чем жизнь.
С тех пор я постоянно пользуюсь книгами как средством, заставляющим время исчезнуть, а писательством — как способом его удержать.
Глава 20
Мадам Ратель за работой
Одним из главных вещественных доказательств того, что у меня было детство, бесспорно остается мой портрет в девятилетнем возрасте кисти мадам Ратель. В 1974 году отец заказал ей акварельные портреты обоих сыновей. Поскольку теперь он виделся с нами реже, то нашел неплохой способ постоянно иметь нас перед глазами. Несколько четвергов подряд мать после обеда отвозила нас на улицу Жана Мермоза, где жила Николь Ратель, и мы позировали, усевшись на табуреты перед ее мольбертом и кисточками, в большой и темной квартире, декорированной паутиной. Она угощала нас отсыревшим печеньем из квадратной жестянки и кока-колой без пузырьков. Сеансы тянулись долго и мучительно; вначале она делала карандашные наброски, затем постепенно накладывала краски, и вода у нее в стакане понемногу темнела, приобретая цвет холодного кофе.
Держаться надлежало прямо; играть или выходить из комнаты, пока художница запечатлевала для вечности наши образы, запрещалось, и должен признать, что не припомню, когда еще я так изнывал от скуки, как сидючи на этом табурете, — все-таки в девять лет я еще не страдал нарциссизмом, присущим мне теперь. Облик мадам Ратель помнится мне смутно, перед глазами печальное жухлое лицо и серенький пучок, как у матери Нормана Бейтса в «Психозе». Моя память превратила ее в нечто среднее между призраком и колдуньей. Акварель, изображающая меня девятилетним, воспроизведена на обложке этой книги — да, я и в самом деле был невинным ангелочком. Нос и подбородок еще не выперли до неприличия вперед, не было ни кругов под глазами, ни бороды, маскирующей пеликаний зоб. Единственное, что не изменилось, — это глаза, хотя их взгляд уже не так ясен, как на детском портрете, теперь висящем над лестницей в моем маленьком парижском доме. Иногда, если я возвращаюсь поздно, портрет, кажется, осуждающе смотрит на меня. Ребенок с ангельским личиком в смятении созерцает собственное падение. Порой, когда мне случается сильно перебрать, я начинаю поносить пай-мальчика, который надменно взирает на меня с высоты своего юного возраста, категорически не приемля того, во что я превратил его будущее.
— Ну ты, придурок пиренейский! Кончай на меня пялиться! Тебе еще и десяти лет нет, ты живешь в крошечной квартирке с разведенной матерью, ходишь в восьмой класс[55] монастырской школы, спишь в одной комнате с братцем и собираешь наклейки из «Пифа»! Ты гордиться должен тем, кого я из тебя сделал! Я осуществил все твои мечты, ты стал писателем, ты, личинка, мог бы выразить мне свое восхищение вместо того, чтобы обливать меня презрением!
Он не отвечает; акварелям вообще свойственно молчаливое высокомерие.
— Вот черт, да кем ты себя возомнил?!
— Тобой.
— И что, я так уж сильно тебя разочаровал?
— Мне просто неприятно думать, что через тридцать лет у меня изо рта будет вонять помойкой и я буду разговаривать с картинами.
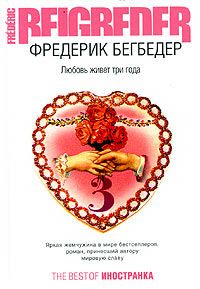
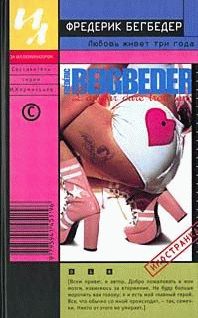
![Фредерик Дар - Глаза,чтобы плакать [По моей могиле кто-то ходил. Человек с улицы. С моей-то рожей. Глаза, чтобы плакать. Хлеб могильщиков]](/uploads/posts/books/148319/148319.jpg)

