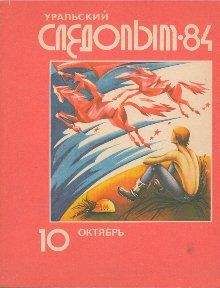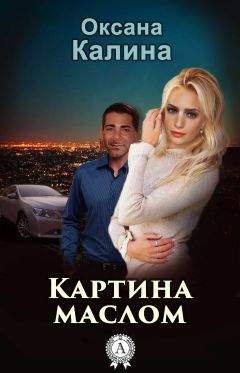Карлос Фуэнтес - Инстинкт Инес
6
Ей снилось, что льды начали отступать, обнажая огромные валуны и залежи глины. В горах, разъеденных снегом, появились новые озера. Иззубренные скалы и россыпи камней образуют непривычный пейзаж. Подо льдом озера бушует невидимый смерч. Сновидение постепенно разрастается. Память обращается водопадом, который угрожает гибелью, и Инес Прада просыпается от собственного крика.
Она не в пещере. Она находится в люксе отеля «Савой» в Лондоне. Инес бросает осторожный взгляд на телефон, на записную книжку, карандаши, чтобы понять: «Где я?» Оперная певица зачастую не знает, где она, откуда приехала. Тем не менее, здесь все кажется роскошной пещерой, сплошной хром и никель, ванная, мебель. Оконные рамы блестят, как серебряные, и делают еще более невзрачным вид печальной обмелевшей реки цвета львиной шкуры, которая словно повернулась к городу спиной (или город не захотел повернуться к ней лицом?). Темза слишком широка, чтобы, подобно Сене, течь через центр города. Сена – кроткая река, ее красота и красота Парижа взаимно дополняют друг друга. Под мостом Мирабо течет Сена…
Инес раздвигает шторы и смотрит на неторопливую скучную Темзу, на вереницу грузовых суденышек и буксиров, снующих мимо безобразных серых зданий складов и заброшенных пустырей. Не случайно Диккенс, так любивший свой город, писал о плывущих по реке трупах, жертвах ночных грабителей…
Лондон повернулся спиной к своей реке, и Инес задергивает шторы. Она знает, что в дверь номера сейчас стучит Габриэль Атлан-Феррара. Почти двадцать лет прошло с тех пор, как они ставили «Осуждение Фауста» в Мехико, а теперь они намерены повторить этот подвиг в «Ковент-Гарден», но, как и в начале работы в Мексике, они захотели сперва встретиться наедине. Тогда шел 1949-й, а сейчас 1967 год. Ей было двадцать девять, а ему тридцать восемь. Теперь ей сорок семь, а ему пятьдесят шесть, они оба словно призраки своей собственной молодости, но, быть может, стареет только тело, а молодость навсегда сохраняется в том беспокойном фантоме, который мы называем душой.
Их неизбежные встречи, пусть даже с очень большими перерывами, были своего рода данью не только молодости, но и глубокой личной привязанности и совместному творчеству. Она действительно всерьез полагала, – и надеялась, что он тоже, – что пела обстоят именно так.
Габриэль изменился очень мало, и изменился к лучшему. Волосы с проседью, такие же длинные и волнистые, как всегда, немного смягчали излишне резкие черты его лица, в которых проявилось смешение рас – средиземноморской, французской, итальянской, североафриканской, возможно, с примесью цыганских кровей (Атлан, Феррара), подчеркивали смуглую кожу и делали еще более благородными очертания высокого лба, но уже в прошлое канула неистовая и необузданная сила, раздувающая широкие ноздри и искажающая его лицо гримасой, – ибо даже когда он улыбался, а сегодня Габриэль был особенно весел, его улыбка походила на гримасу, растягивающую сладострастные беспощадные губы. Глубокие морщины на щеках и в уголках рта были у него и прежде, словно незаживающие рубцы от вечной дуэли с музыкой. Они не являлись чем-то новым. Но когда он снял красный шарф, стал виден обвисший подбородок, неизбежный признак возраста, несмотря на то, что мужчины – улыбнулась Инес – ежедневным бритьем по крайней мере страхуют себя от появления чешуи, как у ящериц, которую мы называем старостью.
Вначале они обменялись взглядами.
Она изменилась сильнее, женщины меняются скорее, чем мужчины, словно с целью компенсировать более раннюю половую зрелость, не только физическую, но и ментальную, интуитивную… Женщина значительно быстрее и больше узнает про жизнь, чем ленивый мужчина, который не торопится расстаться с детством. Вечный подросток или, хуже того, постаревший ребенок. На свете очень мало незрелых женщин и очень много детей, прикидывающихся мужчинами.
Инес умела подчеркнуть свою яркую индивидуальность. Природа наградила ее рыжими волосами, которые с годами она могла подкрашивать в изначальный цвет, не привлекая внимания. Она прекрасно знала, что ничто так не свидетельствует о подступающей старости, как изменение прически. Всякий раз, меняя прическу, женщина накидывает себе пару лет. Инес превратила свои пламенные непокорные волосы в произведение искусства; знак Инес, огненная грива, контрастирующая с глазами, неожиданно черными, а не зелеными, как у всех рыжеволосых. И если возраст постепенно обесцвечивал глаза, то оперной певице было хорошо известно, как заставить их блестеть. Макияж, который бы казался чрезмерным у любой другой женщины, для оперной дивы Инес Прада был продолжением образа или афишей музыки Верди, Беллини, Берлиоза…
Какое-то время они смотрели друг на друга, чтобы узнать, чтобы «полюбопытствовать друг друга», как выразилась Инес, употребив мексиканское словечко, чтобы взяться за руки и сказать: ты не изменился (-лась), ты тот (та) же, как всегда, тебе годы пошли на пользу, какая благородная седина; по счастью, они сохранили приверженность классическому стилю в одежде – на ней был пеньюар бледно-голубого цвета, позволявший оперной диве принимать посетителей дома, как в своей театральной уборной; на нем – черный бархатистый костюм, все же соответствовавший уличной моде свингующего Лондона образца 1967 года, хотя оба сознавали, что никогда не вырядятся как молодые, подобно многим смешным старикам, которые не захотели оставаться в стороне от «революции» шестидесятых и, неожиданно бросив свои манеры бизнесменов, вдруг отрастили огромные бакенбарды (при блестящих лысинах), напялили пиджаки в стиле «мао», моряцкие брюки и широченные ремни, или подобно уважаемым дамам в возрасте, которые взгромоздились на платформы а-ля Франкенштейн и нацепили мини-юбки, открывавшие взору ноги со взбухшими венами, которые не удавалось скрыть даже колготкам розового цвета.
Несколько секунд они простояли так, держа друг друга за руки и глядя в глаза.
Что ты делал в это время? Что у тебя происходило? – говорили их глаза: они знали о профессиональных успехах друг друга, оба блестящие, оба независимые.
Сейчас, словно неевклидовы параллельные прямые, они наконец встретились в неизбежной точке кривой.
– Берлиоз снова нас соединил, – улыбнулся Габриэль Атлан-Феррара.
– Да, – она почти не улыбнулась. – Надеюсь, это не станет, как на корриде, прощальным представлением.
– О, как в Мексике, предвестие еще одной долгой разлуки… Что ты делала в это время, что у тебя происходило?
Она задумалась. Что могло произойти? Почему не произошло то, что, возможно, могло произойти?
– Почему не могло произойти? – рискнул спросить он.
Он давно уже восстановил здоровье после того, как в Мехико его избила шайка усатого поклонника Инес.
– Но была ранена твоя душа…
– Полагаю, да. Я не смог понять жестокость этих людей, даже зная, что один из них был твоим любовником.
– Сядь, Габриэль. Не стой. Хочешь чая?
– Нет, спасибо.
– Тот парень не имел никакого значения.
– Я это знаю, Инес. Не могу себе представить, чтобы ты послала его избить меня. Я понял, что ого жестокость была направлена против тебя, потому что ты выгнала его из своего дома, я понял, что он бил меня, чтобы не ударить тебя. Быть может, этакое своеобразное рыцарство. Такое представление о чести.
– Почему ты разошелся со мной?
– Вернее, почему мы не смогли сблизиться? Я ведь тоже могу думать, что ты отдалилась от меня. Мы были настолько горды, что никто не осмелился сделать первый шаг к примирению.
– Примирение? – прошептала Инес. – Может, речь шла совсем не об этом. Может, агрессивность этого бедняги не имела никакого отношения к нам, к нашей связи…
Утро было холодное, но солнечное, и они вышли прогуляться. Такси доставило их к церкви аббатства Святой Марии в Кенгсингтоне, куда Инес, как она сообщила Габриэлю, совсем молоденькой девушкой ходила молиться. Эту церковь с высоченным шпилем воздвигли сравнительно недавно, но Фундамент относится к IX веку, и их очарованному взору предстала картина, будто древние камни поднимаются из недр земли, чтобы воссоздать подлинную церковь, какой она была в далекие времена своего основания, а не новую, построенную в наши дни. Все способствовало тому, чтобы расположение монастырских зданий, сумрак, арки, лабиринты и даже сады Святой Марии казались столь же старинными, как и фундамент аббатства. Габриэль высказал мысль, что католическая Англия напоминает призрак, обращенный протестантской Англией в свою веру, который в виде домашнего привидения разгуливает по монастырским галереям, развалинам и кладбищам в напрочь лишенном воображения мире англосаксонского пуританства.
– Воображения нет, но есть музыка, – напомнила Инес с улыбкой.
– Очевидно, в виде компенсации, – ответил Габриэль.
Хай-стрит – цивилизованная и комфортабельная улица, здесь много полезных и нужных лавок, торгующих канцелярскими товарами, пишущими машинками и множительными аппаратами, boutiques молодежной моды, газетных киосков и книжных магазинов; просторный Холланд-парк, обнесенный изящной кованой решеткой, – одна из зеленых зон, пунктиром пронизывающих Лондон и придающих городу особое очарование. Проспекты очень функциональны, широки и безобразны – полная противоположность парижским бульварам, но за ними скрываются спокойные улочки, с геометрической точностью ведущие в зелень парков с высокими деревьями, хорошо ухоженными газонами и скамейками для чтения, отдыха и одиночества. Инес любила возвращаться в Лондон, любила безмятежную невозмутимость этих садов, ибо единственно возможные изменения, которые в них происходили, были связаны со сменой времен года; их не затрагивала быстротечная мода или первобытные вопли, которыми молодежь возвещает о своем появлении, словно тишина может отправить их в небытие.