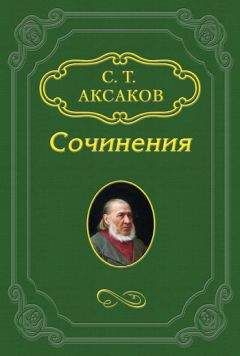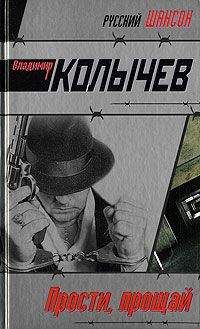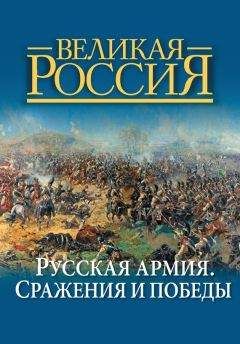Владимир Кантор - Гид
– Костя, ты не сомневайся, все хорошо кончится, – сказал Зыркин, наваливаясь всей своей тяжестью на его правую ногу.
– Может, не надо его так? Он нормальный, у меня тоже была нормальная мама. – Забился в дальний угол Р. Б. Нович. – Но это же не преступление.
– Не знаю, – прохрипел Борзиков, покраснев лицом, – но если вы,
Роман Борисович, хотите того же, то встаньте в очередь.
– Я-то, я-то? Вся моя гениальная натура говорит мне, что я человек небольшой, но значительный, – зашептал из дальнего угла профессор.
– Со значительными потом. А теперь рассмотрим нормальный мужской экземпляр. Вот в этой башке мозги хранятся. Есть у него и другие внутренности, но они нас не интересуют. Меня гложет, как он может независимым от меня быть, когда не раз со мной встречался. Даже я перед сильнейшим меня смирился. А он говорит, что нормальный, а не смиряется. У тебя, Коренев, гордыня паче смирения. Но ты смиришься, нормальный маленький человек. Я и надпись уже знаю, какую ты заслужил: “Нравственность превыше всего”. Так и вырежу. Ты ведь не будешь спорить, что заслужил напоминание об этом. А хорошо бы потом печать поставить.
– Это точно, – прошуршал всезнающий богослов Журкин, – у наших скопцов кастрация так и называлась – печать поставить. Чтоб человек навсегда стал нравственным.
– Вот спасибо за совет! Именно. Так и сделаем. Вы, Константин
Петрович, все твердили об интеллигенции. О жертвенности русской интеллигенции. Вот вы и возродите эту традицию, – скалил зубы
Борзиков, переходя то на “ты”, то на “вы”. – Я навсегда заставлю тебя быть смиренным и тихим. Должен ведь он чем-то заплатить за все шалости своей убогой жизни. – И он снова помахал длинным острым хлебным ножом, вроде того, что был у Бурбона.
Глумление было бессмысленным и непонятным, но не мог он поверить, что они перейдут к реальному действию. Это где-то там, в концлагерях, Освенциме, на Колыме, в Афгане, в Чечне. Перешагнут ли они эту грань? И вдруг, холодея, понял, что у них уже нет другого выхода. Слишком далеко зашли.
Внезапно послышалось громкое кваканье лягушек. Борзиков пьяно пошатнулся, вздрогнул и чуть не уронил нож. Но это квакали лягушки на стенных часах, все по очереди.
Вздрогнул Борзиков, но Алене приказал:
– Ты тоже держи его. Начну с надписи, а потом и это. Видишь, как он напрягся, боится. После этой операции он для нас никто! И для всех тоже! Никто в моих мыслях сомневаться отныне не должен. И этот будет послушный кастрированный барашек!
– Не хочу-у! – завопил Костя.
– А вы, – крикнул будущий властитель дум камуфляжным, – разбейте к едреной матери эти часы!
Часы грякнулись и перестали квакать.
В дверь внезапно раздался бешеный стук.
– Что за гром? – испугался Борзиков и спрятал нож за спину, как нашкодивший школьник.
– А это моя лягушонка в корбчонке едет, я ж позвал ее на помощь, – от отчаяния и безнадежности своего положения сострил Коренев.
Зыркин и Журкин захохотали, по-прежнему прижимая его ноги, навалившись на них. А Борзиков вжимал в стол его голову. Пальчики же левой руки Алены так нежно пробегали по его обнаженной груди, будто ласкали. И от этого ужас только возрастал. Нет ничего страшнее ужаса беспомощной жертвы, отданной на потеху злодеям.
Вдруг дверная цепочка поползла, вылезла из гнезда и свободно провисла, а дверь раскрылась сама по себе. Камуфляжные окаменели у дверей с раскрытыми ртами, как гигантские изваяния неведомых земноводных. В дверь вошли три человека: Рюбецаль, Фроги и неудачливый писатель Борис Кузьмин.
– Они меня привели. Как бытописателя. Сказали, что и так много пропустил, но развязку надо видеть, – пояснил Кузьмин и достал блокнот.
– Наконец-то, – потянулся к Рюбецалю Борзиков. – Я так и знал, что вы не могли забыть наш договор.
Борзикову, когда он глянул на Рюбецаля, вдруг показалось, что перед ним тот волосатый мужик из детства, который подговорил его прыгнуть с горы. Но нет, перед ним был высокий аккуратный немец с пышными усами. И немец этот сумрачно вымолвил:
– Вот что, господин Борзиков, мое терпение лопнуло, и высшие силы аннулировали наш договор. Увидев вас когда-то таким сильным и храбрым мальчиком на горе, я поверил в вашу смелость. Вы прыгнули в воду, откуда я вас достал. Остальное вы все сами себе вообразили. Но ваши книги были смелыми, и вы были гонимы. А Рюбецаль всегда помогал смелым и гонимым.
– Но тогда, на горе, у того мужика был совсем другой облик! – пролепетал Борзиков, ошалело глядя на немца. – Тот мужик на русского сатану Распутина походил как две капли. Я думал, что вы по его приказу действуете.
Рюбецаль усмехнулся:
– Вижу, что вы по-прежнему не очень образованны, а учиться не хотите. Рюбецаль всегда мог принять любой облик. А в вашей стране я принял тот облик, который счел наиболее для нее подходящим. Но вы оказались слишком тщеславны. И французский урок не пошел вам на пользу. Вы, как говорят русские, все время тянете одеяло на себя.
Более того, как я с прискорбием узнал, вы работали еще и на ту организацию, от которой я пытался вас защитить. Я был слеп, ослеплен вашей бывшей смелостью. А вы, оказывается, со своими гонителями сговорились! Как говорит русская пословица, ласковое теля двух маток сосет. Мелочность, господин Борзиков, мелочность. И тщеславие. В своем тщеславии вы вообразили себя антихристом. И как вам могло такое в голову прийти? Да разве антихрист такими безобразиями стал бы заниматься? – Он кивнул на Коренева, которого выпустили Зыркин и
Журкин.
А те присели на корточки, от удивления и с перепугу вжав головы в плечи, как лягушки. Фигля, несмотря на свою долговязость, сумел заползти под кресло. Там уже пребывал Саша Жуткин, которого он потеснил. Костя соскочил со стола и стоял, смущенно оправляя одежду.
Алена вдруг принялась ему помогать застегивать пуговицы.
Отодвинув ее, Фроги подошла, прижалась к нему, поцеловала ниже уха:
– Извини, милый, я очень спешила и, как видишь, успела.
– Фро! Счастье мое! Спасибо, что ты успела. Но я все еще не верю, ведь мир есть сон, как говорил Кальдерон, – шептал очумевший от всех перепадов сегодняшнего дня Коренев.
– Да нет, мой милый, мы с тобой не спим. – Она улыбнулась ему, не обращая внимания на присутствующих.
– Кто ты? – просипел Борзиков. – Курва лягушачья.
– Можете называть меня ангелом-хранителем. Я к этому имени привыкла.
– Нет, правда, – переспросил Кузьмин, – Фроги, вы из какой организации?
– Я-то? Вы все равно не поверите. Я и в самом деле из ангелов-хранителей.
– Я бессмертный! – Завопил, трезвея, Борзиков. – Я свою душу сатане продал!
– Это тебе кажется. Ты просто не понял, с кем дело имел, – спокойно возразила Фроги. – И ты совсем не бессмертный. И молодости твоей у тебя уже не осталось. Сейчас ты в этом убедишься.
Но тут, взвизгнув и замахнувшись хлебным ножом, Борзиков бросился с молодой гибкостью на Коренева:
– Его-то, моего злодея, я все же успею!..
Но не успел. Под взглядом Фроги он внезапно сморщился, одряб, стал разлагаться и вонять, а потом оказался мертвым иссохшим стариком.
– Ну, вот и все, – сказала Фро, – а те, кому он и в самом деле служил, устроят ему пышные похороны. И такой же, как он, скажет мужественно-фальшивые слова: “Лучшей памятью по Борзикову будут не слезы, а мужество жить так, как жил он: с сухими глазами, со сжатыми губами, с прямой спиной”. Он мечтал ведь о торжествах в его честь.
Вот и получит.
– А душа его отправится туда, где и должна быть, – мрачно сказал
Рюбецаль. – Он обманул мое доверие.
Фроги взглянула на Рюбецаля.
– Один раз тебя обманула женщина, мой друг, с тех пор ты таких же обманутых ищешь и возвеличить их хочешь. Заставила-таки тогда тебя
Эльза репы посчитать. Вот ты и хочешь с людьми посчитаться.
Помогаешь обиженным, поддерживаешь их, но разбираться в них ты так и не научился. Этот вот с твоей легкой руки решил, что он антихрист.
Репы считать легче. Жаль, что твои репы так быстро стареют.
– В нынешнем распаде, – ответил тот, – даже антихристу делать нечего.
– Ну, а остальные, которые так ненавидели лягушек, поживут в их шкуре, причем навсегда. Поживете в их облике среди всевозможных лягушечьих опасностей, может, изменитесь, лучше станете, не хуже настоящих лягушек. А там, глядишь, удостоитесь занять место среди моих безделушек.
– Послушайте, – сказал Р. Б. Нович, – я здесь был, но только в хорошем смысле. Ближе Константина у меня и человека-то нет.
Фроги кивнула головой, и Рувим Бенционович исчез.
– Он уже у себя дома, – сказала она. – Кушает, ест, как говорили ваши классики, суп с куриными пупочками.
– Костя, – прошептал Кузьмин, – такого не бывает. Это все мистика.
– Бывает, как видишь.
И все вроде кончалось сравнительно благополучно. Добро, хоть запоздало, оказалось решительным и торжествовало. Но забыли про