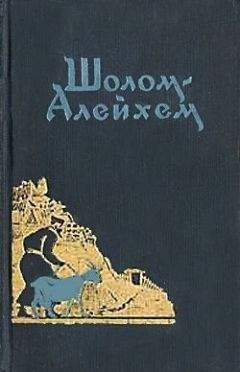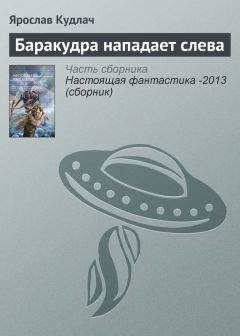Дидье Ковелер - Путь в один конец
Я сообщил им, что явился по поручению их сына. Мамаша тотчас впала в истерику: «Боже мой, с Жераром что-то случилось!» Жерар — брат, одним словом тот, второй сын, еще живой, он как раз уехал за тридцать километров отсюда на работавшую покуда доменную печь. Как мог, я успокоил их: мол, прибыл от другого. От Жан-Пьера. В комнате воцарилось ледяное молчание. Мамаша открыла было рот, взглянула на отца… и вновь взялась за утюг. Папаша перевернул страницу газеты и стал читать.
Прошло какое-то время, и поскольку я еще стоял на пороге, он медленно объяснил:
— Жан-Пьера больше нет.
Конечно, это облегчало мою задачу: достаточно было бы подхватить его фразу. Но я не смог. Мне представился «ситроен» на стоянке у Конфорамы, а внутри — ожидавший Жан-Пьер. Чего ожидавший? Новой встречи? Ямы в земле? И вдруг цель моего путешествия показалась мне мелкой, мерзкой, совершенно идиотской. Чего я добиваюсь? Подарить им мертвеца вместо живого, но навсегда вычеркнутого из их жизни? Нет, блудный сын так не возвращается. Я ошибся легендой.
Единым духом я выпалил Шнейдерам, что Жан-Пьер стал пленником банды марокканцев из Иргиза, куда французское правительство поручило ему меня откомандировать. Мы попали в засаду, потом меня освободили как не представлявшего в качестве заложника никакого интереса, а моему гуманитарному атташе удалось переправить со мной свои бумаги, а также устное послание к его родителем. Вот его текст: «Простите за вокзал и за все, я люблю вас».
Кухня опустела, как после подземного толчка. Они бросились к окнам, к телефону, на их крики сбежались соседи, все семейство, приятели с завода, они оповестили мэрию, своего профсоюзного делегата, местную газетку. Я пустил в ход механизм, а сам оказался слегка на обочине. Что бы там ни было, весть о плене сына воскресила их секунд за десять. Они говорили, что подпишут петицию, соберут выкуп, обратятся к депутату, создадут комитет и от его имени отправятся к префекту Меца.
В сутолоке людей, заполонивших флигелек, требующих подробностей о похищении, я тихонько улизнул. В моих глазах эта история еще не имела ни формы, ни смысла: мне просто хотелось примирить Шнейдеров с их сыном, прежде чем дать ему умереть как герою, чтобы они сожалели о нем, как он того стоит. Я собирался минут через пятнадцать сообщить им об официальной версии, а потом принести все возможные извинения и предоставить гроб в фургоне. А потом, когда бы прошел первый шок, они бы оценили мою деликатность. Впрочем, пока изменялась только концовка: поскольку мобилизовано столько людей, мы, быть может, получим похороны регионального масштаба.
Раз двадцать я прошел из конца в конец стоянку у Конфорамы. Я рыскал, как пес, но мой «ситроен-С35» испарился. Минут через сорок я уразумел, что, наверное, в этом — перст судьбы, а потому прекратил поиски и расспросы ничего не видевших прохожих и пустил все на самотек. А про себя подумал, что моя оторопь — ничто по сравнению с тем сюрпризом, какой я приготовил вору. Воображаю, что он подумает, когда откроет заднюю дверцу, чтобы осмотреть добычу.
Долго еще я каждое утро штудировал хронику в «Репюбликен лоррэн». Ни следа фургона и его груза. Занятнее всего, что я вовсе не чувствовал вины. Напротив, сама действительность, если так можно выразиться, сделала правдоподобным мой вымысел.
Пешком я направился к маленькому городку с погасшими огнями и брел среди замкнутых на ключ флигельков, полуотклеенных и размытых дождем плакатов, оставшихся с прошлых митингов протеста, мимо домов без балконов с хлопавшими на ветру табличками «Вскоре освободится», «Продается», «Сдается внаем». Шаги эхом отдавались на пустых улочках. Я чувствовал себя одиноким в призрачном городе, который только и желал, что вынырнуть из забвения. Я исколесил пол-Франции (хотя и не в длину, а в ширину), и мною двигала мысль о высоком значении моей миссии. А потому я не имею права вот так исчезнуть. Притом исчезнуть — куда? Мне нужно было дойти в этой истории до конца.
Поскольку у меня осталось пять франков, я позвонил в Министерство иностранных дел. Подделав арабский акцент, я попросил секретариат Лупиака. А потом сообщил, что беру на себя похищение Жан-Пьера Шнейдера, будучи членом тайной группы действия против строительства шоссе СТ-1808: Франция должна вынудить Марокко остановить дорожные работы, угрожающие существованию Иргиза. В ином случае заложник будет уничтожен без предупреждения. Секретарь в панике попытался соединить меня с кем-нибудь, кто владеет ситуацией, но у меня кончились монетки.
Когда я возвратился во флигелек, они приняли меня как кинозвезду, еще бы: я вырвался из плена. Они так боялись, что я сбегу. «Вы же видите, я ничего не придумал!» — орал во всю глотку папаша, подпихивая ко мне новоприбывших. Я скромно опускал глаза. Но вот заговорили о том, что нужно вызвать жандармов, надо же им запротоколировать мои свидетельские показания. Пришлось объяснить, что я вернулся в страну, только чтобы оказать услугу их сыну, а у меня самого положение не вполне законное и мне нельзя показываться властям.
К счастью, задребезжал телефон. Звонил полномочный представитель Кэ-д'Орсэ, который спрашивал, получили ли родители Шнейдера, облеченного специальной миссией в Марокко, свежие известия о сыне или требование выкупа. Он сказал, что обоснованность предъявленных правительству требований проверяется, что марокканские власти уже предупреждены о существовании противозаконных формирований, однако пока что, на текущий момент, конечно, было бы неразумно принимать какие-то слухи всерьез и тем более волноваться: они сделают все возможное и невозможное.
Папаша положил трубку со слезами на глазах. Мать бросилась ему в объятия, он стал успокаивать ее, поклялся, что с Жан-Пьером хорошо обходятся, он скоро вернется, и они все отправятся в Париж. Она в слезах только качала головой. Обида на сына их мало-помалу подтачивала, а вот надежда мгновенно возвратила к жизни.
Когда позвонили жандармы, мамаша быстренько ухватила меня за руку и утащила в комнатку сына, чтобы я не отсвечивал. Я отдал ей его ученическую тетрадь и блокнот с путевыми заметками. Сказал, что там — все, достаточно лишь придать этому какую-никакую форму и отдать любому издателю. Таково пожелание Жан-Пьера. Теперь, когда он стал заложником, с фотографиями в «Пари-матч», он имеет все шансы быть напечатанным и прочитанным.
С полуоткрытым ртом, она глядела на сыновнее произведение, держа его в руках так осторожно, словно то был младенец. Со стыдом в голосе она выговорила фразу, услышать которую я не ожидал. Губы у нее дрожали, она тщетно пыталась сохранить улыбку, не желавшую держаться на побагровевшем лице. Она выдавила из себя:
— Он пишет слишком мелко.
Только не надо ничего говорить отцу, но дело в том, что ее бедные глаза уже ничего не разбирают. Не соглашусь ли я прочитать ей вслух? И прибавила, что до меня у Жан-Пьера никогда не было друзей, я могу здесь остаться на несколько дней, если у меня есть время. А ей будет так приятно слышать шаги в комнате ее сыночка.
Что ж, время у меня было.
Сперва я попытался просто сделать примечания на страничках самого Жан-Пьера, высказать свое мнение, что-то объяснить или предложить другую версию, когда был несогласен. Но после пятнадцатого замечания на полях одной страницы, когда мои замечания оказались длиннее самого текста, я решился написать маленькое предисловие, скажем, в качестве противовеса. Мне показалось очень важным изобразить и Жан-Пьера, увиденного моими глазами, самому описать нашу встречу, чтобы читатели могли представить все полнее.
Вот так и получилось, что я просиживаю по десять часов в день за его секретером, гляжу в окно, подыскивая слова в листве яблони. Рассказ мой я начал со страницы семь, чтобы придать себе смелости, как будто шесть первых — уже написаны. Действие начинается в Марселе. В его тапочках, которые мне малы, сжимая в пальцах ручку со следами его зубов, я рассказываю собственную жизнь, чтобы у его книги было предисловие.
Днем его мать приносит мне чай с куском кекса. Она говорит, что малыш очень его любил, но теперь пироги ей не так удаются, как раньше. Я протестую с набитым ртом. А потом она прибавляет, что не хотела бы меня беспокоить, наверное, ей лучше уйти. Но спиной я ощущаю ее взгляд: она воображает его на моем месте, сгорбившегося над тетрадкой, где вытеснено: «Золотарингия» («Чугун — золото Лотарингии» — гласит девиз на желтой обложке). Я стараюсь писать, как он, пить его чай и любить все, что он любит.
Однажды утром, в четверг, пришла Агнес. Под тем предлогом, что ей нужно вернуть кастрюлю. Она поднялась ко мне, чтобы спросить (тайком, потупив глаза), есть ли в книге что-нибудь о ней. Но ее дети устроили шум на кухне, и звон разбитого стакана освободил меня от надобности отвечать. С отчаянным вздохом она бросилась вниз, на ходу скороговоркой пробормотав, что вернется, когда сможет.