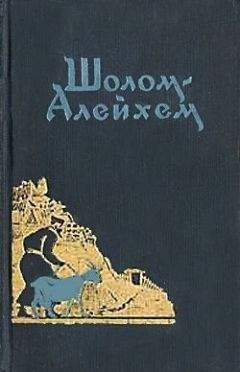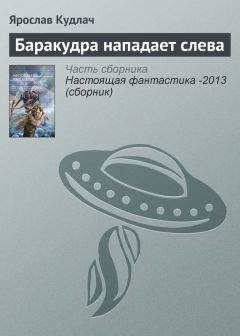Дидье Ковелер - Путь в один конец
А потом случилась авария. На высоте двух тысяч метров, среди ветра, заносившего нас то песком, то снегом, мы три часа пытались починить мотор, но все разобранные части тотчас покрывались песком, а мы так и не могли понять, что стряслось. Жан-Пьер, видно, позабыл, что я разбираюсь в радиоприемниках, а не в моторах, Валери же возилась с радиопередатчиком и посылала сигналы бедствия в пустоту. Попробовали поставить палатку, но ее сорвало. Консервы были в целости, но консервный нож испарился. Судьба и впрямь ополчилась на нас: Жан-Пьер, в жару и бронхитном кашле, с раздувшейся от воспаления ногой, обнаружил «счастливые предвестия» того, что мы приближаемся к Иргизу. Он уже слышал грохот плавильни, а стихии разбушевались потому, что сероликие люди спустили их с цепи, чтобы подать нам знак. Мне показалось, что он сходит с ума, но все было гораздо хуже: он впал в детство. Валери он называл Агнес, она его не поправляла, и я понял, что она знала почему. Мы его уложили на заднее сиденье, накрыв всеми одеялами, какие у нас были. Когда его грезы превратились в настоящий сон, она мне сказала, что пора кончать: доигрались. Как только буря утихнет, мы спустимся к Бу-Гемесу, там дважды в сутки проходит рейсовый автобус. Я возразил, что мы не можем возвратиться, не найдя Иргиз. Она закричала, мол, я сдвинулся: Жан-Пьер болен, и ему необходима «санитарная репатриация». Я отвечал, что во Франции его никто не ждет, его жизнь решается здесь, и нам надо доиграть все до конца, показав ему Иргиз, чтобы он мог докончить книгу. Она более не произнесла ни слова. Я запахнулся в куртку и привалился к дверце, дожидаясь, пока снежная буря перейдет в настоящую ночь.
Утром прояснилось, а Валери исчезла. Я бродил вдоль известнякового уступа, позволяя комьям льда, ломавшимся у меня под ногами, падать вниз, в ущелье, откуда донесся рокот мотора, затем скрежет тормозов: наверное, автобус подобрал нашего гида и устремился дальше. Она дала нам то, чего мы от нее ждали; теперь она была для нас бесполезна. Так что все шло к лучшему.
Когда я обернулся, Жан-Пьер куда-то шел напрямик по глубокому снегу, и его распухшая нога, казалось, больше не мешала ему. Я догнал его. Его глаза блестели от лихорадки, и взгляд скользил мимо меня. Он ткнул вперед пальцем:
— Это там.
Он шел к какой-то расщелине и улыбался. В нескольких метрах от нее он споткнулся, упал и уже не смог подняться. Я помог ему. Он дрожал всем телом, но, как мне показалось, не от холода, а от счастья.
— А ведь сегодня воскресенье!
— Да.
— Работают, Азиз… Все семь дней в неделю! Восемь плавок в сутки… Самый чистый металл в мире… Такой чистый потому, что его обрабатывают с особой точностью по десятку разных параметров. Электроплавка — это же курам на смех… Посмотри. Никогда железный лом, плавленный в электропечи, не заменит наших домен. Пойдем.
Я обнял его за плечи и поддерживал до самого входа в его плавильню, где в самой глубине, под лучами света, лившегося через какой-то проем, я приметил платаны и зонтичные пальмы Иргиза с доисторическими лошадками, сгрудившимися у источника, где пела, купаясь, женщина.
— Ты ее слышишь, Жан-Пьер?
— Да.
Каждый видел свою женщину, но слушали мы одну и ту же песнь. Холод снега под ногами и ослепительное солнце над головой объединили нас у входа в расщелину.
— Красиво, — сказал я.
— Да. Я никогда не должен был отсюда уезжать.
— Конечно. Но ведь ты наконец вернулся.
Он прошептал «спасибо» и тихо соскользнул в снег с улыбкой, остановившейся на губах.
Я отнес его к машине. Вынул у него из кармана блокнот. Тот слегка намок, и я оставил его просушиться на капоте. Из его портфельчика я вытащил разные бумажки, начало романа, которое он записывал на моем досье, а также большую черновую тетрадь с надписью «Лотарингия», где страниц сто были исписаны детским почерком. Все это я заткнул себе за пазуху, между тенниской и рубашкой. Потом камнем выставил донышко коробки с тунцом, съел все, что в ней было, выпив и масло, чтобы придать себе сил, взвалил на плечи маленькое тело, такое легкое, что его груз ощущало только мое сердце, и пошел вниз по тропе.
Я останавливался каждые десять минут, чтобы поговорить с ним, так как подозревал, что он все еще со мной, вокруг меня — своей душой или грезами, не знаю, как выразить… Но его присутствие я ощущал. Какую-то дружескую теплоту, которая толкала меня: иди вперед, ты прав, ты все делал правильно, продолжай; какая-то аллергия на жизнь постепенно оторвала меня от моего тела, как от почвы, чтобы вознести к прошлым мечтам. Продолжай, Азиз, иди до конца, заверши мою историю, а я буду тебя вести. Ты был прав: я был твоим приятелем-попутчиком.
Через несколько часов навстречу мне выскочил большой старый американский «универсал». Оттуда вывалилась Валери и завопила:
— Вот видишь!
Я не возражал. Дремавший в машине ее отец открыл глаза и вышел, чтобы нам помочь. Это была какая-то оплывшая, бесформенная гора в синем теплом комбинезоне, застегнутом доверху: складки морщинистого, как Атлас, лица подрагивали при каждом движении, в них угадывались горные ущелья под бровями-ледниками. Его руки дрожали от пьянства, голова выставлена вперед, и можно было подумать, что ноги ее догоняют. Хорошо поставленный голос поражал глубиной и мрачностью.
— Осторожнее, мои лилии!
Мы сгребли в один угол поддоны с цветами в кузове, превращенном в оранжерею на колесах, чтобы укрыть там затвердевшее тельце моего гуманитарного атташе под листвой чего-то, напоминавшего дикий виноград. Опуская заднюю дверцу, он оперся на мое плечо и произнес голосом видавшего виды человека.
— Я всем этим займусь. Тебя высажу в Табанте. Автобус на Варзазат отправляется между двумя и четырьмя. Тебя никто не видел, тела не найдут, пройдет несколько недель до какого бы то ни было расследования. Деньги у тебя есть?
Я ответил, что у меня осталось пятнадцать тысяч франков из средств нашей миссии, но своего атташе я не покину.
— Послушай, старина, моего совета: растворись в пейзаже и дай о себе забыть. Ты меня понял?
— Делай то, что советует папа, — прошептала Валери.
— Я хочу доставить его домой.
Они переглянулись. Вид у Валери был раздосадованный, но она не проявляла никакого удивления. С металлическим стуком кулак ее отца опустился на капот.
— Ты смываешься или нет?!
Этот вопль лишил его равновесия, он попытался удержаться, ухватившись за радиоантенну, по губам потекла струйка слюны. Со всеми предосторожностями антиквара Валери усадила его, подогнув ему ноги и предусмотрительно положив руку ему на затылок, чтобы он не ударился о край кузова. Он позволил ей привести его в надлежащий вид, тотчас успокоившись и широко улыбнувшись, так что глаза совершенно исчезли в складках кожи. Валери захлопнула дверцу и обернулась ко мне. Прежде чем я успел раскрыть рот, она выпалила очень резко:
— Потрясающий человек! Здесь он творил гениальные вещи — я запрещаю тебе его судить. Никогда не знаешь, чем станешь. И здесь не его вина.
Я сказал, что понимаю. Она подхватила меня под руку и отвела подальше от машины. Она плакала. Мне бы так хотелось, чтобы она говорила еще, а я бы ее слушал, а потом увез бы с нами во Францию, но я чувствовал, что это совершенно невозможно.
— Что мы наделали, Азиз. Что мы наделали…
Я прошептал, что она не сделала ничего плохого и не обязана мне помогать.
— И как же ты намерен выпутаться в одиночку, посреди этих гор?
Я позволил молчанию отвечать за меня.
— Ты хочешь отвезти его в Марсель?
— Нет. В Париж.
Она со мной согласилась. Ветер трепал ее прямые пряди, в очки набился песок, и они едва не падали с носа, а мне так хотелось, чтобы она пожалела Жан-Пьера. Или влюбилась в меня, что одно и то же. И я тихо произнес:
— Знаешь, он тебя любил.
— Знаю. Под другим именем, но какая разница.
— Агнес?
— Агнес.
— Он говорил тебе о Клементине?
— Вначале да. Немного. А потом совсем перестал.
— Тебе было с ним приятно?
— А это тебя не касается.
Ответ как ответ. Похоже на «да». Она спросила:
— Кто такая Агнес?
Я заметил, что это ее не касается, лишь бы не признаваться, что не знаю сам. Вдвоем мы сделались памятью Жан-Пьера, и все, что могли бы скрыть друг от друга, превращалось в способ еще немного продлить его жизнь, сделать ее полнее. Она осведомилась, был ли он католиком или кем-нибудь еще — чтобы помолиться за него. Я подумал вслух, что однажды мы, она и я, вновь найдем друг друга и займемся любовью, и это будет нашей молитвой. Она ничего не ответила, мы протянули друг другу руки и не разнимали их до самой машины.
— Может, отправим его через «Эроп ассистенс»? — предложил ее отец, наблюдавший за нами, опустив стекло. В руках он держал термос, из которого только что отпил, и теперь ему дышалось получше. На всякий случай я напомнил, что имею охранную грамоту короля.