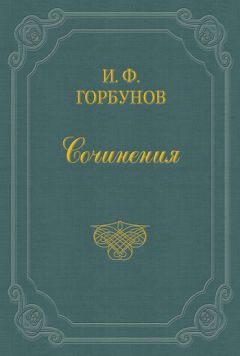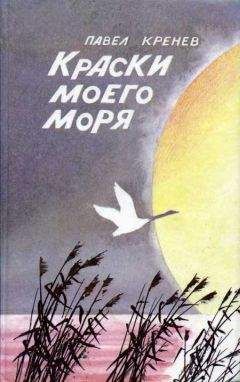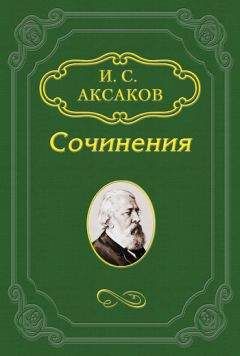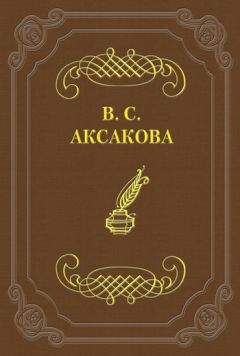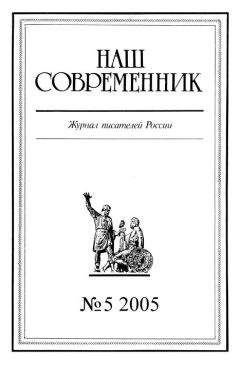Ион Деген - Портреты учителей
Василий Дмитриевич Чаклин не был моим непосредственным учителем, но он преподал мне очень важный урок: он заставил задуматься над случаями, которые мне неоднократно приходилось наблюдать в клинике, перед которыми отступала врачебная логика, перед которыми отступали знания и опыт, которые, казалось, не укладывались в законы природы.
Василий Дмитриевич Чаклин научил меня в безнадежных случаях надеяться на Чудо. 1988 г.
БОРИС САМОЙЛОВИЧ КУЦЕНОК И ДРУГИЕ
По логике вещей следовало начать рассказ со дня встречи с Борисом Самойловичем Куценок. Но о какой логике можно говорить, когда вся эта история соткана из едва заметных паутинок, разделенных пространством и временем, и их переплетение вообще не поддается рациональному объяснению.
Поэтому я выпустил из рук вожжи и освободился от ограничений и дисциплины.
Пусть рассказ течет, как ему заблагорассудится, отклоняясь в пруды побочных ассоциаций, и снова, когда он пожелает, возвращается в свое русло.
В августе 1946 года я попал в госпиталь по поводу ранений полуторалетней давности.
Увы, нельзя перехитрить природу. Я тогда надеялся на то, что раны постепенно зарубцуются после досрочной выписки из госпиталя, и я таким образом выиграю год, хотя бы частично компенсировав потерю четырех лет на войне.
Я поступил в медицинский институт, проучился два семестра и ничего не выиграл.
Снова госпиталь. И кто знает, не лучше ли было долечиться сразу после ранения, а не делать сейчас такой болезненный перерыв в учении. Но так оно случилось, и ничего уже нельзя было переиграть.
Зато лежал я не в заштатном Кирове с деревянными тротуарами, куда в феврале 1945 года меня привезли с фронта, а в стольном граде Киеве, куда я приехал сам.
Койку слева от меня занимал Саша Радивилов, худой издерганный летчик, то ли штурмовик, то ли истребитель. Он постоянно бушевал, ругался со всеми, но главное — доводил сестер до слез оскорблениями и угрозами. Саша требовал морфий.
Пригвожденный вытяжением к кровати, я не мог делом выразить степень своего возмущения таким поведением.
Впитанный мною во время войны идиотский антогонизм между танкистами и летчиками уже сам по себе был в достаточной мере сильным фоном для антипатии к моему соседу слева. К тому же у Саши не было ран. Целенькие руки и ноги без единой царапины. Какого же хрена он орет и требует морфий?
Я еще не знал, что оно такое облитерирующий эндартериит, который, как рассказывал Саша, был у него следствием резкого переохлаждения не то в воздухе, не то на земле.
Уже будучи молодым врачем, я однажды встретил Сашу Радивилова на костылях и на одной ноге. Пользоваться протезом он не мог из-за болей в культе. В ту пору я уже знал, почему он пристрастился к морфию.
Когда я ампутировал его вторую ногу, даже речи не могло быть о том, чтобы излечить Сашу от наркомании. Его дневная норма — восемьдесят кубических сантиметров однопроцентного раствора морфина в день — равнялась примерно тому, что получало все наше отделение на шестьдесят пять коек в течение полумесяца.
Но в дни, когда Саша был моим соседом по палате, его доза наркотиков еще не всегда достигала пяти кубиков.
Саша побаивался меня даже лежащего на вытяжении, поэтому свою нелюбовь к евреям он не облекал в крайние формы.
Его постоянным оппонентом по еврейскому вопросу был лежавший напротив меня Андрей Булгаков.
Андрей тоже был летчиком, вернее, стрелком тяжелого бомбардировщика. Почему-то мое отношение к Андрею не накладывалось на фон традиционного антогонизма между танкистами и летчиками.
Пять из шести обитателей палаты попали сюда, уже отведав гражданской жизни. Андрей лежал непрерывно с декабря 1941 года.
Он выпрыгнул из горящего самолета на высоте 4000 метров. Парашют не раскрылся. В течение бесконечных секунд, пока Андрей падал на белую землю, он сотни раз пережил свою гибель.
Он знал, что упадет на ноги, хотя, какое это имело значение. Просто и об этом он успел подумать в последние, как он считал, секунды жизни. Но удар почему-то пришелся по спине. Еще несколько десятков метров, ломая замерзший кустарник, он скользил на бешеной скорости, пропахивал снег крутого откоса и замер на льду реки. Обруч невыносимой боли сковал поясницу и живот. Ног он не чувствовал.
Его подобрали и отвезли в госпиталь. Перелом пяти позвонков и паралич нижних конечностей.
Но Андрей жил. Об этом случае писали все газеты.
В декабре 1941 года я лечился в госпитале после первого ранения. Там я случайно прочитал об этом чуде, в которое трудно было поверить.
И вот спустя почти пять лет я лежал напротив человека, оставшегося в живых после падения с высоты 4000 метров.
А если человек остается в живых, он продолжает радоваться и страдать, любить и ненавидеть, любить и нуждаться в любви, даже если у него все еще парализованы ноги.
Андрей был влюблен в методистку, занимавшуюся с ним лечебной физкультурой.
Хорошенькая стройная доброжелательная Зоя тратила на Андрея часы в палате и в своем кабинете. Она родилась быть медичкой. Даже ее забавная речь с легким польским акцентом успокаивала раненых.
Когда Андрей смотрел на нее, его глаза излучали нежность, которую, казалось, можно было собрать, подставив ладони. Но, если не считать массажа и упражнений, Андрей не получал от нее ни на иоту больше, чем остальные раненые.
Мне тоже хотелось любви. Но мои однокурсницы любили меня, как брата. И только. А на что еще я мог рассчитывать, прыгая на костылях?
Что же говорить об Андрее, который был почти на девять лет старше меня?
Открытое благородное лицо тридцатилетнего мужчины. Мягкие темнорусые волосы. Крепкое тело. Но только выше пояса.
Спустя десять лет мы случайно встретились на углу Пушкинской и Прорезной. Андрей шел, даже не прихрамывая. Женщины оглядывались на высокого красавца. Могли ли они знать, что его фиксированная стройная осанка — результат сращения тел пяти позвонков?
Я был рад услышать, что Андрей женат, что у него ребенок, что у него нет оснований быть недовольным жизнью.
Мы вспомнили госпиталь, раненых, персонал. С теплой иронией Андрей говорил о своей безнадежной любви. Он даже не отреагировал, когда я сказал, что его бывшая пассия сейчас работает в нашем отделении. Но это было потом.
А тогда, осенью 1946 года именно от Андрея я впервые услышал о Борисе Самойловиче Куценок.
Доказывая Саше Радивилову, что евреи все-таки полезный народ, русак Андрей перечислял известных им отличных врачей-евреев.
Имя Бориса Самойловича вызвало возражение Саши:
— Он не еврей. Где ты видел еврея с фамилией Куценок?
Я лично не мог сказать ничего определенного по этому поводу, так как еще не видел доцента Куценок, хотя уже слышал, что он лучший в Киеве специалист по костному туберкулезу.
Что касается фамилии, я не удивился бы, узнав, что у еврея фамилия, скажем, Куусинен или даже Куцятсен.
Андрей настойчиво уверял своего оппонента в том, что Борис Самойлович — еврей.
Однажды сквозь распахнутые двери палаты я увидел в коридоре полного пожилого врача с крупным квадратным лицом, со спокойными мудрыми и грустными глазами. Он тяжело хромал, и я, еще не умеющий по характеру хромоты ставить диагноз, в данном случае не ошибся, посчитав, что хромота — результат полиомиэлита. В шестом классе я был репетитором у мальчика с точно такой инвалидностью.
— Борис Самойлович! — окликнул его Андрей.
Доктор зашел в палату, поговорил с Булгаковым, затем повернулся ко мне и голосом, в котором явно были слышны еврейские нотки, сказал:
— Я слышал о вас. Ну что ж, редкий случай, быть вам ортопедом-травматологом. Возможно, когда-нибудь будем работать вместе.
Борис Самойлович заведовал клиникой в институте туберкулеза. В нашем госпитале он консультировал раз в неделю. Но за все десять месяцев, проведенных мною в госпитале я видел его не более пяти-шести раз.
В 1951 году я окончил медицинский институт. О моем поступлении в клиническую ординатуру рассказывали легенды. Я уже привык к тому, что на различных конференциях меня рассматривали как диковинку.
На конференции по туберкулезу костей и суставов в институте туберкулеза в январе 1952 года я увидел Бориса Самойловича.
С верхнего ряда амфитеатра я смотрел на него, сидевшего за столом президума, сомневаясь, помнит ли он меня.
Но в перерыве Борис Самойлович поднялся ко мне, очень тепло пожал руку, поздравил с победой (именно так он назвал мое поступление в ординатуру) и сказал:
— Помните, в госпитале в разговоре с вами я предположил, что, возможно, мы будем работать вместе? Сейчас вероятность этого увеличилась.
Дважды в месяц мы встречались с доцентом Куценок на заседаниях ортопедического общества. Я всегда сидел на одном и том же месте в последнем ряду. Борис Самойлович подходил ко мне перекинуться одной двумя фразами. Мне было даже неловко, что пожилой человек, — именно так воспринималась мною разница в двадцать лет, — встает со своего места и подходит ко мне. Первым же я подойти к нему не смел, ощущая социальную дистанцию между нами. Я стал поджидать его в коридоре и вместе мы входили в конференцзал.