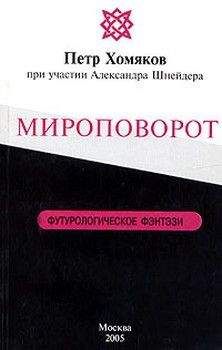Хилари Нгвено - Современный кенийский детектив
Марк, я люблю тебя, но и отца я очень люблю. В течение десяти лет после смерти мамы и до нашей встречи он был для меня единственным близким человеком на всем свете. Что бы ни произошло между нами, я не могу, любовь моя, не могу огорчать отца. Не теперь. Подождем немного.
Будь здоров, до встречи. Улучи хоть минутку, чтобы подумать обо мне, пока готовишься к экзаменам. Я о тебе всегда думаю с любовью.
Джен».Эразмус как завороженный уставился на письмо. Невозможно в это поверить. Мысли его путались, но он все-таки припомнил случай, когда дочь заговорила с ним об африканцах.
«Как ты думаешь, папа? — спросила она. — Они такие же, как мы?» — «Конечно, нет, дорогая, — ответил он. — Как это могло прийти тебе в голову?» — «Они люди», — сказала она. «Да, но совершенно другие люди». — «В Америке их не считают другими». — «Но мы же не американцы, дорогая», — ответил он.
В другой раз она пожелала узнать, основан ли закон, запрещающий смешанные браки, на Библии или на политических соображениях.
«Глупый вопрос, Джен! — ответил он. — Авторы Библии не могли предвидеть нынешнего положения в Южной Африке». — «Значит, закон, запрещающий смешанные браки, и все законы об апартеиде лишены моральных оснований?» — упорствовала она. «Я этого не говорил. Дело не в морали, а в самосохранении. Если мы хотим остаться такими, как есть, отстоять нормы цивилизованной жизни, мы должны сохранять чистоту расы. Вот и все».
Больше этот вопрос не возникал. А потом ее не стало. Эразмус не раз спрашивал себя после смерти Дженет: «Почему?» Теперь он нашел ответ, написанный корявым почерком на обороте фотографии: «Они любили друг друга — вот их единственное преступление. За эту любовь они поплатились жизнью».
Эразмус ждал дополнительной информации от неизвестного африканца. Он ходил за покупками в центр города, бродил по той же улице, на которой юноша сунул ему в карман конверт с фотографией и письмом. Но никаких известий от молодого человека не поступало. Ни телефонного звонка, ни письма.
Шли дни, и стремление узнать все обстоятельства смерти дочери превратилось в навязчивую идею. Он читал и перечитывал газетные вырезки о случившемся, официальные соболезнования, присланные директором института и начальником полиции Йоханнесбурга. Чем больше он вчитывался в них, тем сильнее становилось его убеждение, что дочь не была убита «радикально настроенным африканцем». «Они любили друг друга — вот их единственное преступление» — слова эти продолжали преследовать его и после того, как он разорвал и сжег фотографию и письмо Дженет своему возлюбленному. «За эту любовь они поплатились жизнью», — повторял и повторял он про себя.
Два месяца он терзался мучительными раздумьями. Первая, самая острая, боль, вызванная смертью дочери, поутихла. Эразмус принял решение: он прекратит работу над проектом и покинет Южную Африку. Это принесло ему странное облегчение. По-видимому, он был больше буром, чем сам — сознавал. Он любил Южную Африку, любил страну, людей. Это его дом, и, хотя по-настоящему близкие ему люди — жена и дочь — умерли, ему представлялось, что, покидая родину, он как бы предает их. Но, приняв наконец решение, Эразмус почувствовал, как тяжкое бремя свалилось с его плеч. Он не простил дочери ее проступка — ее поведению нет оправдания. «Но и убийству оправдания нет, — думал он с горечью. — Арестовали бы ее, держали бы под замком, пока не образумится. Попросили бы его вмешаться. Но пристрелить как собаку, а потом лгать о причине смерти…» Он не может больше служить такому жестокому режиму. Он мечтал отомстить за любимую дочь, как никогда ни о чем не мечтал.
Но скоро Эразмус понял, что выехать из Южной Африки не так-то просто. Он работал над секретным проектом и не мог ни с того ни с сего отправиться в аэропорт и сесть в самолет. За каждым его шагом следили. Раньше он принимал меры по своей охране как должное. Он знал, они необходимы, к тому же они обеспечивали уединение, позволявшее сосредоточиться на работе.
Неделями Эразмус изучал распорядок дня своих коллег по лаборатории и работников органов безопасности, то есть тех людей, с кем он проводил большую часть времени. Потом поездка в Кейптаун, якобы на отдых. Ему не надо было притворяться больным. Он не только плохо выглядел, но и действительно был нездоров, вымотан, подавлен, и убедить медиков дать ему недельный отпуск не составило большого труда. Само «исчезновение» прошло без сучка без задоринки. Он знал: охранники поймут, что дело неладно, не сразу, а лишь через несколько дней…
Эразмус опять посмотрел на часы. Приезжать на станцию слишком рано не следует. Ведь все может случиться, хотя он потратил много сил, чтобы изменить внешность: укоротил и выкрасил волосы, даже отказался от очков.
Солнце было теперь за старым портом. Небо начало приобретать золотистый оттенок. Зазвонил телефон. Портье сообщил, что такси подано. Эразмус взял портфель, спустился в вестибюль и попрощался с портье.
На станции он с радостью узнал, что поедет один в купе первого класса. Заперев дверь, он приготовился к ночному путешествию. В шесть вечера поезд отошел от станции Момбаса.
Через пять минут в купе громко постучали. На мгновение у Эразмуса замерло сердце. Раздался еще один стук, потом властный голос контролера:
— Билеты! Предъявите билеты!
Эразмус облегченно вздохнул и открыл дверь.
В маленькой гостинице, где останавливался Эразмус, зазвонил телефон. Портье снял трубку.
— Добрый вечер, — послышался голос с европейским акцентом. — Я разыскиваю друга, который должен был остановиться у вас.
— Как его имя?
— Боюсь, он записался под чужим именем, — ответил голос. — Я вам лучше его опишу. Примерно шести футов роста, лет пятидесяти пяти, носит очки, возможно, отпустил бороду. Он белый, то есть европеец.
— У нас проживает несколько европейцев, — сказал портье. — Одни в очках, другие без очков. С бородами и без бород. Когда примерно ваш друг мог приехать и откуда?
— О, пару дней назад из Латинской Америки. В последние два-три дня приезжал к вам европеец такого вида, как я описал?
— Нет, сэр.
На другом конце провода помолчали, потом послышался тот же голос:
— Скорее всего, у моего друга совсем нет багажа. Может быть, один портфель.
— Минутку, минутку. Два дня назад въехал джентльмен-европеец. Без багажа. Один портфель. И, пока он жил в гостинице, ни разу из номера не вышел.
— Что значит «пока жил в гостинице»? Он уехал?
— Час тому назад, сэр.
— Куда?
— Кажется, поездом в Найроби.
— О господи! — воскликнул голос.
— У этого джентльмена не было очков, сэр, — сказал портье, — и бороды тоже не было.
Но в трубке уже звучали короткие гудки.
— Что же делать? — спросил европеец в белой рубашке и шортах. — Вот не везет! Два дня прочесывали остров, а он все это время спокойно сидел в паршивой гостинице на берегу.
— Мы ведь не знаем, он это или нет, — сказал его собеседник.
— Чую, это он. Без багажа, один портфель. Въезжает в гостиницу и два дня на свет божий не вылезает, пока не садится в поезд. Он, он, не иначе!
— Может, позвонить туда опять и спросить, под каким именем он записался?
— Что это даст? Он наверняка пустил в ход два или три имени. Нам нельзя терять времени. Попробуем выяснить на вокзале, в каком купе он едет.
— А потом?
— Потом известим Найроби. Теперь их черед позаботиться о пташке.
14
— Прошу прощения за поздний звонок, инспектор, — сказал Проныра, когда Килонзо поднял трубку. — Я пытался связаться с Вайгуру, но в Управлении безопасности никто не знает, где он.
— В чем дело, Проныра?
— Видишь ли, у меня есть кое-какая информация об исчезнувшем ученом.
— Проныра, я думал, мы договорились…
— Мы договорились, что я не буду совать нос в это дело. Я и не совал.
— Нет, совал. Мои люди рассказали мне, что ты опять был на квартире у певца и угрожал им, когда они с тобой заговорили.
— Послушай, это не совсем так, во всяком случае, можно выяснить это потом, но сейчас необходимо срочно найти Вайгуру.
— Но я понятия не имею, где он, — сказал Килонзо. — Кстати, у нас с тобой, по-моему, был уговор?
— Инспектор, я бы и рад, но это не мой секрет.
— Предупреждаю, за укрытие информации мы тебя по головке не погладим.
— Я не скрываю информации. Напротив, мечтаю ею поделиться, но она должна попасть кому следует. Это касается Управления безопасности, а не твоего отдела.
— Если так, чего же ты сюда звонишь?
— Мне нужна твоя помощь, инспектор, — сказал Проныра. — К начальнику Управления безопасности меня никто не пропустит или, вернее, пропустят, да он не станет со мной разговаривать. А мне надо повидать его и потолковать с ним.