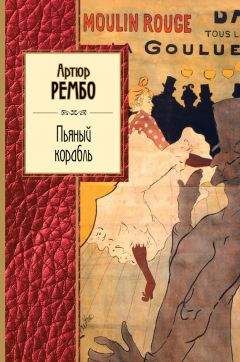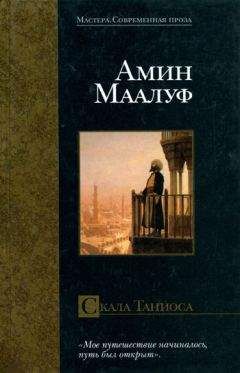Наталья Рубанова - Коллекция нефункциональных мужчин: Предъявы
Он смотрит в меня. Крышка рояля впивается мне в спину, но я не ощущаю боли. Я люблю, Инга…
Мы едем в Берген. Это юго-запад Норвегии. Это отделенный горами от материка, амфитеатром раскинутый на небольшом полуострове, город. Мы заказываем экскурсию.
…основанный еще в XI веке… Ты часто здесь бываешь?… Здесь родились знаменитый скрипач Упе Буль, основатель современной датской литературы Людвиг Хольберг, композитор Эдвард Григ… Нет, но здесь росла моя мать… Издавна играл огромную роль в жизни страны… Она была красивая?.. Был одним из крупнейших торговых центров Западной Европы… Да, красивая. Как ты. Я красивая?…Замечательное искусство Норвегии, его красота и самобытность долго оставались неизвестными… Ты красивая…
Многочисленные легенды, созданные в далекие времена… Ты видишься с детьми?…Раскрывают сказочный мир, населенный великанами, троллями, гномами… Да, конечно. Ян уже совсем взрослый, а Даг — просто чудо, я их очень люблю… Необыкновенные горные жители ревниво оберегают свое достояние…
Я никогда не любил Ингрид; она скучная, она не такая, как ты. Зачем же женился?…Прекрасная и своеобразная музыка Норвегии… Не знаю, зачем. Отец хотел внуков… Сырой климат в Тролльхаугене плохо действовал на состояние композитора… Я уже очень долго один; все, что у меня есть — моя работа и мои дети… Вы часто видитесь?…Норвежский народ свято чтит память… Я стараюсь чаще. Обычно раз в две-три недели…Пьесы Ибсена «Кукольный дом», «Комедия любви», «Дикая утка» завоевали всемирную известность. В драмах, написанных на темы древних скандинавских саг, Ибсен рисовал людей сильных, смелых, противопоставляя их обывателям…
Боже, как тепла рука! Из-за этой руки эта Норвегия обволакивается в наших глазах туманом. Впрочем, Берген вовсе не солнечный; он, скорее, серого цвета, иного, чем ясный и чистый Кристианзанд, где Ингвар работает директором Кукольно-драматического театра (директором «Кукольного дома»? Я несколько раз видела эту пьесу — ибсеновскую «Нору»; я ее очень хорошо помню…).
Мы возвращаемся в Кристианзанд. Ингвар так уверенно все делает, с ума можно сойти: держит ли руль, режет ли мясо… Банально? Нет! Он быстр, ловок, он нравится мне, да что там, я его люблю, я его обожаю, у нас еще восемь дней, как много — восемь дней, это же целая вечность, ах, что я буду без него делать, нет, это ужасно, ужасно, ужасно, так вляпаться, мне же даже давно не тридцать пять, я не хочу, не хочу, не хочу уезжать, как я несчастна, как я счастлива, Ингвар, как мне хорошо с тобой. Правда, хорошо? Думаешь, стану я врать после перелета над океаном? Думаю, тебе можно заняться языком. Думаю, мне можно заняться тобой.
Машина останавливается недалеко от Кристианзанда. Кажется, в этой машине теряет смысл сам Тимоти Лири. Но если теряет смысл сам Тимоти Лири, что остается?
Утром я долго смотрела в серо-голубое небо через комнатное окно. Долго — на спящего человека рядом. Небо казалось мне искусственным, а человек… Я ущипнула себя, больно так ущипнула — для проверки: не кажется ли? Нет, все настоящее, и руки, и волосы, и вот они — очки — на маленькой тумбочке. А я? Я — тоже настоящая? Я тихонько встала, подошла к зеркалу: странно, почему так меняется выражение зрачков? Именно зрачков — ведь это самая глубокая видимая часть глаз, самая странная. Почему я не видела себя такой уже пару десятков? Почему сама не раскопала в себе — себя? Видит Бог, я знала, уже успела узнать, что нельзя найти счастье в другом, что все эти «половинки» — полный бред собачий, но — забредила-таки.
Все то напускное равнодушие, гордость, независимость, цитаты из Кастанеды и Платона куда-то вдруг делись, напрочь сорвав крышу — то, чего ждала я всю жизнь; то, чего боялась. Чувства никогда не приносили мне ничего хорошего; одна сплошная пытка… У-у-у! Я научилась без чувств обходиться, компенсируя те кое-какой-около-и-литературной деятельностью, а также оживленными предсказуемыми мальчиками старше и моложе себя. Я полностью освоила суррогат, он стал даже удобен, прирос к коже, стал моим двойником — он оберегал, хранил, тешил меня — суррогат. Все же философы, которых я до дыр зачитала еще в грехопаденческой аморальной среде литфака и которых одобрила, исходя из реанимационных любовных историй, лапками летучих мышей прикрепились к оставшимся извилинам: я знала, что они правы. Я старалась смотреть на все сквозь пальцы, не привязываться — обуглившись, не искать… Потеряла ли я веру? Обрела ли покой? Где-то как-то — да, и все же… Иногда посасывало под ложечкой; странная глупая душа, пробитая дробинками рационализма, убивающими слона, скулила уже по-собачьи не одну пятилетку — только я больше не хотела рекордов; покоя хотела. Самообретения. Хотела, чтобы Вероника не повторяла моих не очень маленьких трагедий. Ах, какая шаткая почва! Смотришь — луг, идешь, идешь — бултых! — провалилась. По шею. Трясина. Паника. Что делать? Ни души кругом. Только я и трясина. Лучшая в мире трясина, которой нельзя избежать. Несмотря на философов. Эзотериков. Идиотов. Врачей. Я тонула в своей трясине. Но теперь где-то рядом был Ингвар. Он спал на большой белой кровати. Он, конечно же, казался похожим на ребенка. Все любимые мужчины, когда спят, кажутся похожими на детей. Не любимые — не кажутся: на них, сонных, не смотришь.
Я подошла к кровати и пощекотала сухим цветком нос Ингвара. Тот поморщился и перевернулся на другой бок.
Я накинула плащ и вышла из дома.
У Ингвара очень светлый, полустеклянный дом. На удивление тихий. В России так тихо не живут. Но у Ингвара четверть дома: он не безумно богат, хотя и вовсе не нищ. Он оставил в Осло дом жене и детям, а сам уехал в Кристианзанд, где такое оглушительно низкое небо.
Я иду по саду: там много цветов. Я даже не знаю, который час — едва ли больше восьми. Как-то не спится. В саду пруд. Все, как в сказке: черная зеркальная поверхность, на ней две пары белых лебедей. Так бывает: сад, пруд и лебеди. А потом — обрыв скалы: у него дом ведь стоит как будто на скале. Так тоже бывает. Я дурею от тишины и вспоминаю, что сейчас — декабрь. Цветы в декабре. Это юг Норвегии, это реальность. Я сажусь около пруда и долго-долго смотрю в воду. Ощущение наполненности стреляет в оба виска. Я падаю замертво. Я, наверное, отделяюсь от тела; я, быть может, даже уже не существую, да и была ли я когда-нибудь вообще?
Я варю в кухне кофе по-венски. Я знаю много рецептов, но Ингвар любит по-венски: это когда в уже готовый кофе кладут горкой взбитые с сахаром и ванилином сливки, а сверху посыпают тертым шоколадом: элементарно.
У него удивительный аппетит. Я смотрю, как быстро исчезает все то, над чем колдовала я минут сорок, но сама почему-то не ем. Я не хочу ни спать, ни есть; он говорит, что я худею, но я всего лишь выгляжу ненамного старше тридцатилетней: я могу покупать одежду в «Детском мире»; я ничего не загадываю, я же знаю, что ничего не сбывается, я уже взрослая девочка, ах, ну почему даже взрослые девочки иногда мечтают? Я не хочу бороться с собой; я счастлива.
В два часа мы уже в Осло. Ингвар рассказывает что-то про 17 мая — День независимости Норвегии. Или Конституции. Бог мой, неужели Норвегия от чего-то зависела? Я не понял вопрос, повтори. Я смеюсь. Ингвар говорит, что видел королевскую семью — на балконе Дворца, да, вот та самая улица Карла Йоханса.
Мы приезжаем в Парк Вигеланна: это самое крупное собрание скульптур, созданное одним человеком — целых шестьдесят пять, с ума сойти, все в камне, как интересно, Ингвар, есть хочется, ну давай заедем в кафе, ты же не завтракала, от тебя же вообще ничего не останется, а разве надо, чтобы оставалось, я не понял вопрос, смотри, какое небо, что ты будешь пить, лучше минералку, я пьяная от воздуха, Инга, ты необыкновенная женщина, а ты разве мог бы связаться с обыкновенной, как вкусно, как странно, как страшно, я теперь знаю, где живет душа, я ее раскопала, я теперь сама себе археолог, не ной, дура, радуйся, да я и радуюсь, Инга, что ты делаешь, Инга, ты же уже взрослая девочка…
Потом — музей кораблей викингов. У-у, какие они были сильные, эти викинги, какие загадочные, ты хотел бы быть викингом, Ингвар? Я хотел бы видеться чаще…
Мы возвращаемся в Кристианзанд. Это вроде нашего поселка городского типа — население семьсот тысяч; только все очень красиво и совсем не похоже на Россию.
Мы заходим в бар. Ингвара все приветствуют: он здоровается за руку почти со всеми — он же директор Кукольного театра, он же… Что — он? Кто — он? Что я — о нем? Что я делаю здесь? Голову потеряла, идиотка, дочь одну оставила, чего она там натворить может, мать дома больная, это называется «старческий склероз», она однажды поставила на кухонный стол ночной горшок и положила в него баклажан, чем ее Вероника кормит, сейчас сессия в институте, ну что я делаю здесь, да, Ингвар, люблю…
Я выступаю в роли русской женщины, не выступая. Это почему-то престижно — русская; это льстит Ингвару — кажущаяся ухоженной, дама со средним знанием английского, быстро пьянеющая, худощавая.