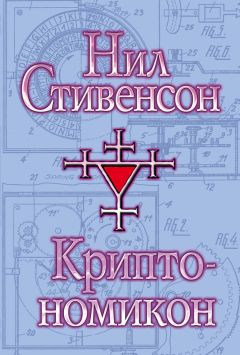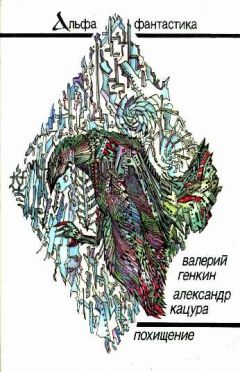Валерий Генкин - Санки, козел, паровоз
К тому времени автору минуло шестьдесят.
Переворачиваю страницу. 25 ноября 1952 года.
«Вчера арестован Илья. Уволены шесть из восьми профессоров-евреев института. По слухам, в других клиниках то же. Из ближайших знакомых арестованы Фельдман, Егоров, Коган, Поляков. Думаю, меня возьмут со дня на день».
Через неделю дед пишет (предпоследняя запись): «Мысли мои, человека слабого, о себе: что это — конец? лагерь? ссылка? О Женюре — как она будет жить? Ведь она ничего не умеет. Хорошо, что у Лели есть Анатолий».
Анатолий — дядя Толя, ДДТ, АНК — новый мамин муж, появившийся вскоре после войны — на печаль по погибшему папе много времени не ушло, — родителям ее не особенно пришелся ко двору Профессору Затуловскому и его супруге, несмотря на левые закидоны молодости и нежную любовь к Некрасову, хотелось видеть свою овдовевшую дочь замужем за кем-нибудь ex nostris, а не за приехавшим из Белоруссии не шибко образованным инженером. Анатолий же, услыхав об аресте тестя, крепко выпил и материл вождей и Лубянку — Женюру это напугало, но и заставило посмотреть на зятя другими глазами.
Что же произошло за сто бесконечных дней, которые отделяли декабрьскую ночь с помянутым поэтом кандальным звоном дверных цепочек и апрельское утро, когда баба Женя и только что вернувшийся дед услышали по радио: «…привлеченные по делу группы врачей, арестованы без каких-либо законных оснований… Полностью реабилитированы… из-под стражи освобождены»? («Ну вот, ну вот, умница Лаврентий Павлович, разобрался», — бормотала Женюра, неверной рукой гладя щеку деда. А совсем скоро я услышал частушку: «Как министр Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков». А потом вышел из доверия Маленков, и ему надавал пинков товарищ Хрущев. А потом…)
Следователь строил могучее здание заговора, выходящего за пределы обычных происков сионизма и международного империализма. Бессонной ночью пришла ему в голову лихая мысль пристегнуть к еврейским отравителям белоэмигрантов. В деле деда нашлись связи с Алексеем Хохловым — изменником родины, расстрелянным в 1938 году, бывшим прапорщиком царской гвардии, от которого множество нитей вело — как было со всей очевидностью доказано пятнадцать лет назад — к монархическим кругам эмиграции. Не вызывала сомнений и причастность к этой банде хирурга Шаргородского, вступившего в аморальную связь с вдовой Хохлова. Измученным допросами и мордобоем Шаргородскому и Затуловскому по очереди читали показания: Илье — Семена, Семену — Ильи. Илья Борисович не скрыл, что дед находился в дружеских отношениях с Хохловым. Дед и сам назвал Хохлова своим другом, причем до того, как увидел протокол допроса Шаргородского, но в память врезалось: Илья дает показания против него. В свой черед Затуловский подтвердил, что Илья Борисович помогал Лидии Хохловой и ее малолетнему сыну Шаргородский и сам показал, что ездил к Хохловой в Нарым и поддерживал ее материально, заявил об этом задолго до того, как ему прочли протокол допроса Затуловского, — но запомнил: Семен выдает следователю их (его, Лиды, самого деда) личное, сокровенное, не могущее быть предметом грязного рассмотрения этих. В сущности, оба вели себя достойно, хотя и не героически. Впрочем, кто знает, где начинался героизм в Лефортовской тюрьме пятьдесят третьего года. Не оболгать коллегу — это героизм?
Они встретились у вдовы одного из тех, кто не вернулся. Не поздоровались. Отвели глаза. И с тех пор не разговаривали до самой смерти деда. Чего было больше в их молчании — угрызений совести или укора, — сказать трудно. Прости они друг друга, легче было б жить, а деду — и умирать. Умирал он долго, от рака легких. И курил, пока был в сознании. Илья Борисович не зашел ни разу. Есть, правда, два свидетельства какого-то подобия их связи. Во-первых, к нам дважды приходила Лида и приносила лекарство, которое, как выяснилось, доставал Илья Борисович через одного чина Министерства иностранных дел, чью жену он блестяще прооперировал. Второе свидетельство — последняя запись в альбомчике с разноцветными страницами, сделанная за три дня до того, как дед окончательно впал в беспамятство. Открывается она вот таким, казалось бы, не относящимся ни к чему определенному сонетом:
Печально я гляжу на календарь —
Он знаменует жизни быстротечность,
Сей инструмент, что строго делит вечность
На равные периоды. Январь
Разбудит разом, звонко, без обмана
Надежду, спящую под белой пеленой,
На новую весну, и новый летний зной,
И новые осенние туманы.
И, сидя перед стопкою листов,
Где спит покой и кроется тревога,
Где теплый дом и дальняя дорога,
К простому выводу прийти готов:
Нет интересней книг под небесами —
Ее мы ежечасно пишем сами.
«Не помню, — писал далее дед, — кто из поэтов сказал, что стихотворение — это ткань, растянутая на остриях отдельных, самых главных слов. И жизнь, в сущности, материя, сотканная вокруг самых близких, самых дорогих людей, — только вблизи них она сгущается до осязаемости, обретает ценность, остается в памяти. С ними и прощаешься, когда наступает срок. И, уходя, шлешь им привет, свое прощение — и мольбу о встречном прощении. Их хоровод не дает тебе потерять человеческий облик в самую страшную минуту, которая ожидает всех. Леля, Женюра, Виталик, Алексей, Илья… “Я жду товарища, от Бога в веках дарованного мне”».
Теперь уже поздно, а ведь мог бы я подойти к худому старцу в черном костюме — на свадьбе ли, на похоронах — и показать ему последнюю запись в дневнике дяди Семы.
Смотри-ка, за двадцать лет ты почти ничего не узнала о моих предках, а теперь — вот, получите. Мы жили своей жизнью, почти сразу родилась Ольга, детские болезни, мелкие склоки, таблица умножения, склоки покрупнее, немного развлечений, немного ревности — в сущности, вполне счастливая жизнь, правда? А деда с Женюрой давно не было на свете. Это сейчас меня подхватили, увлекли за собой Титиль и Митиль. Дайте до детства плацкартный билет. В одиночку разве займешься такими раскопками, а тут собеседник — дружеский, молчаливый, как луна. Per arnica silentia lunae. Это «при дружеском молчании луны» я встретил в каком-то романе Брюсова — красиво, втемяшилось в память.
В тех же закоулках памяти Виталика задержались, заблудились всякие присловья детства, сейчас из употребления вышедшие.
Видал миндал — говаривал дед.
Мастер Пепка делает крепко — он же.
С чувством, с толком, с расстановкой.
Не дорога лепешка, а дорога потешка.
Почем фунт — не лиха, а почему-то изюма.
Я вас люблю и уважаю, беру за хвост и провожаю.
Здорово, я бык, а ты корова. (Или наоборот?)
Мирись-мирись-мирись (сцепившись мизинцами) и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться.
Васька дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует, спит под забором, зовут его вором.
Жадина-говядина, турецкий барабан, кто на нем играет? — Виталька-таракан.
Честно слово врать готово. А еще были «честное ленинское» и «честное сталинское» — куда честнее простого «честного пионерского».
Жаба прыгала-скакала, чуть в болото не попала, а в болоте сидел рак, а кто слушал, тот дурак.
Командир полка, нос до потолка.
Есть товарищ командир, я в уборную сходил, дайте мне бумажку вытереть какашку.
Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет.
Ничего не больно, курица довольна.
Еще его волновала судьба барабанщика, но не того, гайдаровского, а другого — бравого, который крепко спал, вдруг проснулся, перевернулся, две копейки потерял. Он часто сострадательно задумывался: вот этот бравый (а стало быть, усатый, чем-то похожий на дядьку в галифе, который забросил кроху Виталика на верхнюю полку) мужчина долго барабанил, в поте лица зарабытывая свои две копейки, наконец выбился из сил и крепко уснул. И надо же случиться такому несчастью…
А «ехали казаки»? И «папе сделали ботинки»? Наивное ухо с трудом проникало в сладостную непристойность. Внимание-внимание, на нас идет Германия, с вилами, с лопатами, с бабами горбатыми… И очень смешная, в пику детскому антисемитизму, загадка: кого выбираешь — Розу или Сару. Оказывалось, Роза — дочь говновоза, а Сара — дочь комиссара.
Ну и, конечно: сколько время — два еврея, третий жид, по веревочке бежит, веревка лопнула, жида прихлопнула.
Это открывает большую тему, но крещендо зазвучала она много позже, в школе, а пока — Бог с нею.
Так хотелось толком написать историю, что вот, мол, человек родился и были у него папа Ося, и мама Леля, и бабушки, и дедушки, и прочие родственники, и няня Нюта, и друзья, из которых главные два Алика, один умный, другой добрый, и что с ними всеми стало, и как он рос, учился, дружил, любил, бедокурил, гулял, женился, родил ребенка, старел, и подличал, и добрые дела творил, и прочее — да вот кому это интересно? Есть ли в этой истории — story? Сейчас спрос на story, знаешь ли, складный сюжет. Он и сам любит «Трех мушкетеров», они его выручали, много лет лечили от скверного настроения. Накатит хандра, он за книгу. Нюта увидит знакомую обложку с оперенными шляпами да шпагами, спросит: «Ну, чего приключилось, Витальчик?» Или — как награда за успех. Сдашь экзамен, придешь домой и на любом месте раскроешь. И опять Нюта увидит: «Что, мушкетеров своих читаешь? Сдал, стало быть. Ну, иди поешь». Сколько уж лет не перечитывал. В последний раз, кстати, по странному поводу вспомнил. Какая-то дама, облившись горячим кофе в ресторане, подала в суд на компанию и отсудила много-много денег — мол, не предупредили, что кофе горяч, и если вылить его на себя (а для чего еще берут в ресторане кофе?), то можно обжечься. И Виталик живо себе представил эпизод: подъезжает д’Артаньян к трактиру, берет миску с горячей похлебкой и, задев шпорами за — за что он мог задеть шпорами? ну сама придумай, — обливает себя, аж в сапоги потекло. И тут же — в суд на трактирщика, дескать, не обеспечил безопасности. Тыщу пистолей гони.