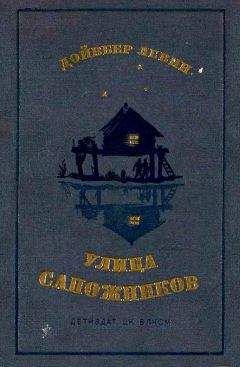Олег Ермаков - Холст
– Так уже обстоятельства не те.
Долговязый снисходительно улыбнулся, расчесал пятерней – лапища у него была вовсе не аристократическая – курчавые ржавого цвета волосы и заявил, что он знал одного мастера, ювелира по сейфам. Любым.
Вот у кого были руки. Но… потом ноги отказали.
– Почему? – с изумлением спросил Кулибин.
– Квасил, – коротко сказал долговязый и сурово замолчал, глядя куда-то по-над полным стаканом в руке.
– Ты не задерживай, – напомнил цыкающий.
И долговязый, запрокинув лысеющую голову, выпил.
Охлопков с неохотой согласился составить им компанию, но уступил неоспоримому доводу мужика с бакенбардами, что в бригаду надо
вливаться. А он собирался прийти еще на железную дорогу, втайне надеясь, что все же больше такой жестокой надобности не возникнет – родители Ирмы пришлют приличную сумму на обустройство или еще откуда-нибудь свалятся деньги, ведь сказано же: не заботьтесь о завтрашнем дне, – это так заманчиво и вдохновляюще звучит после таскания ящиков из вагонов в кузова грузовиков, что готов и остальным сентенциям верить, как бы нелепы они ни были.
Действительно, почему бы не подняться на заречный холм Глинска, где стоит дом напротив Штыка, мемориального знака, водруженного во славу советского оружия, и не отсчитать сколько-то дукатов за какой-нибудь холст… но как об этом узнает? ну о существовании Г. Охлопкова? и его картин? Кто? Меценат, почитатель сомнительной мазни.
Ночью Охлопков поднялся на крышу кинотеатра по железной лестнице, стоял, ловил горчащим от табака и крепкого чая ртом влажные волны весеннего воздуха.
В высокой мгле иногда гудел самолет, и бесшумно проносились насекомые эфира, обрастающие жесткими крыльями звука в наушниках бессонных радистов. В разрывах облаков показывались пятна звезд, куда-то плывущих наподобие плошек с огоньками по Гангу на одной из картин Рериха.
Но это сейчас, отсюда все так видится: Ганг над кинотеатром в
Глинске, выразительно одинокая фигура сторожа на крыше, дома с черными окнами, мощная труба котельной, стена тюрьмы, силуэты деревьев, среди ветвей золотой квадрат окна – и в нем тоже очертания человека. Городские пейзажи не менее странны и загадочны, чем горно-таежные, с бурными реками и высокими небесами.
А тогда Охлопкову чего-то там не хватало, он не мог ухватить что-то и толковал о “светоносных местах”. Несмотря на “застолбленные вечера”, он таскался с мольбертом – да, но как это все так получилось? вдруг спрашивал он себя, очнувшись с кистью в одной руке и палитрой в другой, – что он снова за это взялся? – и все снова то же, та же погоня неизвестно за кем, за чем сквозь волокна холста, – и пытался переводить вечерние отсветы на стенах домов, на холмах, стоя в глубине уже погрузившейся в сумерки улицы, на язык красок.
Это время самое заманчивое, время первых сумерек или, по свидетельству Зимборова, так называемое время эффекта, или режим, когда небо еще излучает свет, а фонари вот-вот зажгутся, – время, когда камни начинают сопротивляться притяжению земли и по всему городу слегка расшатываются фундаменты зданий; в сумеречных тоннелях улиц движутся люди и машины, громоздкие трамваи как призраки, а каменные зеркала на холмах ловят и отражают свет, – и этот отраженный свет надо писать какой-то совершенно истонченной кистью, а камень должен быть ощутимо тяжел и в то же время невесом. Камень и свет, и ничего больше. Но они не давались.
Может быть, он слишком уставал на железной дороге? Может, живописцу, как и музыканту, нельзя огрублять тяжелым трудом руки?
Полуночник не звонил. Иногда Охлопкову казалось, что тот что-то такое знает… Да нет, конечно, дело не в этом, какие еще подсказки? что он, ученик у доски?
Вот пример стоика: лейтенант Скрябин, ушедший в глухое подполье – навсегда. В этом что-то средневековое. Безымянное служение. Франциск
Ассизский увлеченно читал проповедь птицам, – ну так птицам же, и об этом все-таки стало известно. А лейтенант играет пустым креслам. И никто ни о чем не ведает.
Утром Охлопков застал Ирму не одну, соседка попросила попасти прихворнувшую дочку, и та корпела, высунув язык и шмыгая носом над альбомом с акварельными красками.
– Я ей дала твои краски, – сказала Ирма.
Девочка покосилась на Охлопкова. Он кивнул ей.
– Сейчас что-нибудь приготовлю, – заторопилась Ирма.
Охлопков вышел следом, нагнав в кухне, схватил за талию, она повернула светлое бледное лицо в веснушках, приоткрыла рот, он поцеловал ее, она дала ему язык, улыбаясь щелками зеленых сияющих глаз, потом легонько оттолкнула.
– Почему бы ей не сидеть у себя с моими красками? – спросил Охлопков.
– А ты в детстве не боялся один? в пустой комнате? – ответила она вопросом, зажигая газ.
– Нет.
Она дунула на спичку: фу! – и посмотрела на него с укоризною.
– Не боялся?
– Ну, боялся. Но любопытство было сильнее.
– Какое любопытство? – спросила она, ставя на газ чайник и черную сковородку.
– Что такое пустая комната. И меня до сих пор это удивляет: отсутствие.
Ирма приподняла золотистые брови, качнула хвостом рыжих волос, туго перехваченных черной резинкой. Ему нравилось, когда она так гладко зачесывала волосы, – тогда в ее лице появлялось что-то от молодого животного… неизвестной породы; она так крепко и тщательно убирала волосы в хвост, что кожа на скулах натягивалась и глаза удлинялись, как у немок Лукаса Кранаха Старшего.
– Не понимаю, чем это интересно. Скучно же?
– Нет, наоборот: печаль и какая-то глубоко запрятанная радость.
Она улыбнулась.
– Ты хочешь все это объяснить девочке?
– Нет, больше всего я хочу…
Дверь скрипнула. Ирма оглянулась, шепнула: это она, ты пойдешь – или я?
– Ладно, я послежу за чайником и яичницей.
Она вышла из кухни.
Он смотрел, как волнуются складки халата вокруг ее бедер.
Из-под плиты высунулся таракан, поводил усами и быстро исчез.
На одном из столов громоздилась грязная посуда, это был стол еще одного жильца, летчика, некогда мыть посуду, если ты выполняешь различные задания родины. Лида порывалась помыть сковородку, тарелки, чашки, но сын, расторопный пэтэушник Витька, предупредил, что расколошматит чисто вымытую посуду небесного работника. Тут были какие-то тайны, черт их знает. Охлопкову не хотелось вникать. О, тараканьи бега нашей действительности!
Предпочтительней думать о чем-то другом. О золотых черепашках из Азии.
Из-под плиты снова выдвинулись антенны вечного противника человечества. Охлопков следил за ним. Лазутчик ловил сообщения местного эфира. Капнуло в раковину. Прожужжала муха. Засипел чайник.
Он выключил газ, заварил чай. Обычно они ели в своей комнате, но сейчас там была гостья, и Охлопков раздумывал, где ему лучше устроиться: свалка на столе летчика отбивала аппетит. В это время мучительных раздумий он услышал, что в замке поворачивается ключ, – и обрадовался: значит, вернулся пэтэушник Витька или пришла, отпросившись с работы, сама Лида, и они уведут девочку, боящуюся пустых комнат (а он ощущает в этом какую-то гипнотическую силу). Он решил еще немного обождать в кухне, подошел к окну, посмотрел во двор, полный крикливых чаек. По весне они всегда налетают во дворы
Глинска, словно город затопило, как Венецию, море, выхватывают что-то из помойных железных ржавых контейнеров, галдят, гоняются друг за другом, бесноватые, наглые, хичкоковские… Но что-то слишком долго никто не входит? Дверь наконец открылась. Ага.
Охлопков снова уставился в окно. По двору шла бабушка в зимнем зеленом пальто с облезлым воротником и в сером платке, она не спешила верить теплым ветрам и чайкам; она шла медленно, сомнамбулически, все еще под зимним наркозом… В коридоре раздался грохот. Охлопков обернулся в недоумении, вышел. Человек с упавшим на лоб светло-русым чубом пытался встать, опираясь на опрокинутую круглую стиральную машину, напоминающую некий летательный аппарат.
Да и человек был в форме летающих: в синем плаще с погонами, в синих брюках; синяя фуражка с синим околышем откатилась к двери елесинской комнаты, – дверь открылась, появилась встревоженная Ирма, из-за нее выглядывала девочка.
Пауза.
– Дядя Леня, – сказала девочка.
Ясно. Сосед вернулся, выполнив очередное задание родины. Охлопков и
Ирма видели его впервые. Летчик пытался посмотреть на них, улыбнуться, но тяжелая голова срывалась на грудь, а губы только кривились. Охлопков подошел к нему.
– Давайте помогу.
Летчик обнял стиральную машину, сумел наконец возвести глаза на
Охлопкова и вдруг каким-то совершенно трезвым голосом спросил:
– А зачем?
Это так не вязалось с его видом, что Охлопков остановился в нерешительности, внимательно разглядывая летчика, – уж не шутит ли он. Но взгляд его небесных глаз пробивался сквозь облачную пелену. И дыхание было столь густым и красноречивым, что казалось, сейчас начнет обрастать виноградными гроздьями.