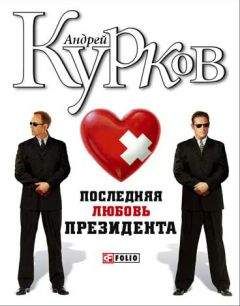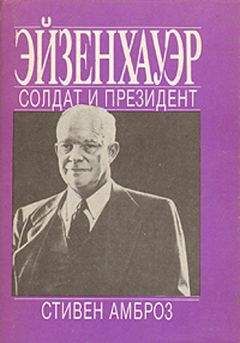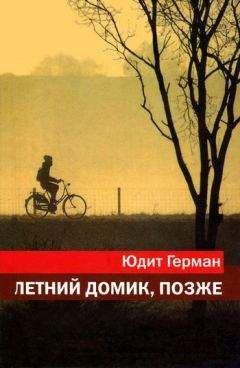Илья Бояшов - Безумец и его сыновья
Не выдержал Строитель:
— Да замолчите вы! Не с ума ли сами сходите? Один ошалел от карьеры, другой несет ахинею про кости! Третий молотит чушь — помешался на джазе! Не говорю уже о самом последнем, хоть он и молчит — а тоже готов свихнуться, пойти по пути моей бедной матери, то выискивать, чего нет и не было!.. Что делать с батькой?! Нельзя выносить такое дальше, нельзя смотреть на безумство!
От львиного рыка все разом заткнулись. И почтительно слушали брата, поглядывая на его кулаки.
— Словно камень он на наших ногах! — вот что за всех сказал Строитель. — Словно болото, затягивает он в тину, прилипает к нам, словно дурная болезнь, от которой никак не избавиться… Или мы уже не выросли, нет у нас глаз? Много на нем темного — а мы все, как малые дети, не пора ли очнуться?! Уйдем навсегда! Забудем о нем, как и не было этого прошлого! Пора кончать с ним. И сами мы хороши — не слабость ли наша — тянуться к его котлам и кружкам, валяться рядом с ним, подобно поросятам, терпеть его выходки. Хватит! Я ухожу навсегда, хоть здесь и могила матери. Клянусь — ноги моей больше не будет на этом проклятом месте!
Братья молчали.
— И вы убирайтесь, пока не поздно! — вот что сказал им Строитель. — Все равно уже разные наши дорожки. Терпеть друг друга не можем, готовы друг друга живьем загрызть. Не лучше ли навсегда разойтись и нам?
Молчали братья.
— А ты! — сказал, прежде чем уйти, Строитель Книжнику. — Ты, самый слабый и глупый мой брат! Куда денешься ты? Отправишься за своей химерой? Опомнись!.. Тысячи умников до тебя все глаза уже проглядели, да без толку! Ты самый безобидный, и мне тебя больше всех жаль. На что уйдет твоя жизнь? На ожидание дурацкого чуда!.. Глупый, глупый!..
Так он сказал с нежностью и печалью и поцеловал брата:
— Прощай!
И первым спустился с холма.
Остальные побрели следом, спотыкаясь о павших, переступая через бесчувственные тела, не внимая мольбам и стонам, — и каждый из сыновей думал о своем.
Пьяница сидел у подножия, вглядываясь в пустую в тот ранний час дорогу и поджидая новую жертву. Проходя мимо и прощаясь, они трепали его рыжую голову.
Через год всем пришлось возвратиться: Музыкант узнал о смерти матери. И остальные узнали скорбную весть — и не могли не приехать!
Прибыв из дальней дали, братья, включая Книжника и Степана, склонились над Натальиным гробом. И даже Строитель был с ними — ведь Наталья стала ему второй матерью! Не мог он не попрощаться с нею.
И не смогли братья узнать свое селение! На месте землянок стояли избы. И на кладбище затерялись среди новых крестов едва заметные в траве холмики. Сгнил заброшенный Беспалов обелиск, звезда его упала в траву и потерялась в ней — никто уже и не знал о Председателе. Лишь возле обелиска был холмик: подхоронили к обелиску забытую и скончавшуюся Агриппу. Оставались на холме из близких доживать свой век Лисенок и Мария — сгорбившись, брели они вместе с братьями за гробом. Недолго и им оставалось топтать эту землю.
Похоронили Наталью тихо и достойно, уже приготовлены были Марией кутья и блины. Родные покойнице люди опустили ее гроб и засыпали его, и постояли молча над могилой.
Нужно было разъезжаться после похорон, но не уезжали братья! И словно какая-то сила проснулась в них и понесла их к знакомому проклятому месту. И не смогли объяснить сами себе, что сделалось с ними, что их толкало и заставляло идти — даже Строителя! То была неведомая, пугающая сила. Сам черт нес их — на закате поднялись они на Безумцев холм и оказались в саду. Отец их, как ни в чем не бывало, возлежал под яблоней в окружении последних трех своих псов, с которых сползла шерсть; обнажились бока, и собачьи глаза уже не открывались и залеплены были мухами. С желтых клыков стекала слюна. Лишь подрагивание говорило, что они еще живы. Дремали собаки, точно верные сторожа, положив на одряхлевшие лапы свои тяжелые головы.
А перед Безумцем дымился котелок с кашей и лежал хлеб. Лениво он отломал им от своего хлеба и приглашал трапезничать.
Молча сыновья стояли перед овчиной. Слышалось лишь трепетание яблоневых листочков, и гудел высоко над ними заблудившийся одинокий шмель. Безумец же словно не замечал многозначности их молчания. Весело посматривал снизу вверх.
Удивительно, но Пьяница (раньше никогда такого не случалось с рыжим слугой) на сей раз был тих и спокоен. В тот закатный час навалилась на Пьяницу непонятная усталость: он тер глаза, улыбался виновато братьям, но не в силах был встать и, примостившись возле отцовской овчины, свернувшись, словно кошка, в клубок, заснул, подложив под огненную голову свой маленький кулачок. И закатное солнце освещало его головенку.
Тяжелым был в тот вечер закат, никогда не бывало еще такого заката. Солнце никак не хотело уходить, цеплялось за дальние холмы и перелески и все в округе заливало таинственным, густым своим светом. Безумцева изба, яблони, трава были залиты тем тяжелым солнцем и словно горели! И Книжник напрасно заслонялся ладонью от тяжести света, напрасно щурился — даже в тени яблонь не мог он спрятаться от заката, который не предвещал ничего хорошего. И тишина сделалась нехорошей, и каждый из братьев ощущал это и замирал в дурном, томящем предчувствии. А Безумец не замечал их настроения; дразнил их в тот вечер своим наплевательством. Знал он уже о смерти Натальи и знал, откуда они вернулись, но, по всему было видно, равнодушен был он к уходу своей прежней огненной и самой страстной любовницы. Он, видно, считал себя вечным. Нетерпеливо стучал ложкой о котелок и почесывал свое поросшее волосами пузо — закат золотил эти волосы, словно пробегала по животу отца огненная змейка. Как нарочно дразнил их отец! Потрепав по холкам рассыпающихся от дряхлости собак, обратился к сыновьям, да так обидно, что даже у Книжника перехватило дыхание — видно, что по-прежнему он их ни во что не ставил. Он вот что сказал, поднимая на них башку:
— Вот сукины дети! Вот засранцы!
И спрашивал их:
— Отчего не едите, не пьете?
И приказывал:
— Ешьте и пейте!
И скалился.
Музыкант впервые не сдержал тогда слез:
— На моих ладонях глина с могилы матери. Я пришел сюда — и вижу твое веселье! Повсюду разорение, нищета и развал, а ты не протрешь свои глаза, не слезешь с холма… Плачу над матерью — а ты, как всегда, смеешься!..
И не преминул добавить, напоминая не столько батьке, сколько братьям:
— Есть иная земля — уедем туда. Что здесь делать?
И не выдержал Строитель — обратился к отцу с целой речью. Гневной и страстной была его речь. Любой бы, кому бросались с таким надрывом такие слова, дрогнул, изменился бы в лице. Вот что кинул отцу в лицо Строитель:
— Ничто не разбудит тебя! Проклинаю тебя за равнодушие! Кто погубил наших матерей? Кто заливался водкой? Кто блудил все это время? Научил ты нас хоть чему? Хоть раз пригрел, пригладил? Тебе все равно — есть мы, нет нас — все лень и беспамятство. Тошно нам тебя видеть! Отец ты нам? Место тебе на нашей земле?
И если бы не рыгнул во время той страстной и гневной речи Безумец — возможно, все бы и обошлось! Но он рыгнул — вот в чем дело! Рыгнул, как всегда, как рыгал прежде миллионы раз. Изрыгнул он свое довольство в тот страшный и памятный день. И безумие мгновенно навалилось на всех его сыновей, даже на Книжника! (Уже после, через много-много лет, вспоминая, содрогались они тому внезапному бешенству и признавались себе, что никогда больше не случалось с ними такого приступа, никогда больше не душили их с такой силой гнев и ярость.) Разум помутился у всех, даже у Степана. Всех сыновей внезапно залило самой ужасной злобой, не смогли они противиться той злобе — и случилось то, что никогда, ни при каких обстоятельствах не должно было с ними случаться? Не сговариваясь, набросились они на отца, схватили и поволокли к вырытой в прошлом году для него же яме. Он хрипел, он вырывался — но его хрип и пузыри на его губах лишь прибавляли им безрассудной слепой ярости. Сами себя не помня, тащили они своего отца к открытой могиле. Безумец же цеплялся за каждое яблоневое деревце, которое попадалось: за ветви, за листву. И тогда с ненавистью сыновья отрывали его скрюченные пальцы от стволов и ветвей.
А Пьяница спал и ничего этого не видел.
Совсем немного оставалось до ямы — Безумец хватался за землю и ногтями бороздил по ней глубокие следы, но они толкали и толкали его к могиле, не слыша хрипа, не слыша его сдавленной матерщины. И куда только подевалась прежняя отцовская сила?! Видно, не осталось в нем прежней силы! Не мог он вырваться и разметать их, подобно тому как медведь раскидывает гончих своими могучими лапами. Сыновья стали запихивать его в узкую глубокую яму — он цеплялся за куст, что рос на ее краю, и хватал глину, из-под его ногтей выступила кровь и брызгала на траву, а сошедшие с ума сыновья отрывали его пальцы от последней надежды! И ни одного стона, ни одного крика не вырвалось у них, все сотворялось в молчании. Лишь их отец хрипел, и пена выступала на его губах. Уже повис он над ямой, уже оставалось чуть-чуть.