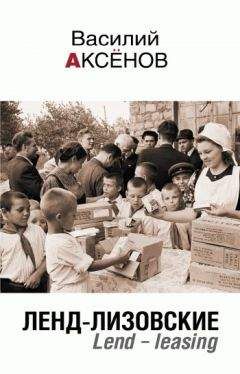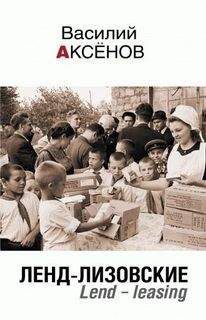Карлос Фуэнтес - Мексиканская повесть, 80-е годы
Его привели к шефу после того, как он укусил Уренью за руку, говорят, шеф чуть не умер со смеху и захотел увидеть Бернабе. Он принял его в кабинете — сплошь кожа и дуб, и ровненькие ряды ярких книг, и статуэтки, и масло: извергающие пламя вулканы. Он сказал, что его можно называть лиценциат, лиценциат Мариано Карреон, а «шеф», как к нему обращаются в лагере, звучит слишком напыщенно, не так ли? Да, шеф, сказал Бернабе и во все глаза глядел на лиценциата: ну, вылитый школьный сторож со своими очками — аккуратная прилизанная головенка, темные очки, как из бутылочного стекла, и крысиные усики. Шеф сказал Бернабе, что ему понравилось, как он отделал кровососа Уренью, бывшего красного, который теперь служит им, потому что другие лидеры движения считают теоретическое обоснованьице просто необходимым.
Лично сам он так не считает и сейчас это продемонстрирует. Вызвал Уренью, и теоретик явился с опущенной головой и перевязанной кистью, в которую Бернабе вонзил свои зубы. Приказал ему взять книгу с полки, любую, на свой вкус, и громко читать. Хорошо, сеньор, как прикажете, сеньор, сказал Уренья и стал читать дрожащим голосом: «в каждом из нас не мог не любить я дерево с его маленькой осенью на плечах»,[55] ты что-нибудь понимаешь, Бернабе? нет, отвечал Бернабе, читай дальше, Уреньита, как прикажете, сеньор: «в жилищах самых убогих, без лампы и без огня, без хлеба, без очага, под грохот все ниже катился я, умирая своей одинокой смертью», продолжай, Уреньита, не робей, я хочу, чтобы парень понял, какое дерьмо вся эта культура, «камень в камне, где ты был, человек, воздух в воздухе, где ты был, человек, время во времени», Уренья закашлялся, тысяча извинений, «ты был тоже только осколком недосозданного человека», хватит, Уреньита, ты что-нибудь понял, малый? Бернабе мотнул головой. Шеф приказал Уренье сунуть книжку в большую пепельницу из тлакепакского стекла, цветом похожего на очки лиценциата, туда ее, и поджечь спичкой, да побыстрее, Уреньита, сказал с сухим недобрым смешком лиценциат Карреон и добавил, пока пылали страницы: мне незачем было читать все это, чтобы стать тем, кем я стал, кому и нужно, а мне ни к чему, Уреньита, ты зачем хотел испортить этого мальчика? И сказал, мол, тот правильно сделал, что куснул его, а если вы меня спросите, для чего тут эта библиотека, я вам отвечу: чтобы каждую минуту помнить, как еще много книг надо сжечь. Видишь ли, парень, сказал он Бернабе, и в глазах его вспыхнул огонь, словно прожегший толстенные холодные стекла очков, любой мозгляк может одной лишь пулей продырявить самую умную голову в мире, не забывай об этом.
Он сказал, что Бернабе ему по нутру, очень понравился, напомнил молодость, влил новые силы, да и разве плохо, говорил шеф, когда взял Бернабе с собой в свой «галакси», черный, как катафалк, с темными стеклами, чтобы изнутри все видеть, а самому не быть видимым, — разве плохо иметь кого-то, кто тебя опекает, как меня и таких, как я, вот уже сорок лет, правда, генерал Альмасан[56] провалился на выборах, иначе синаркизм[57] позаботился бы о таких, как мы, таких, какими мы стали теперь, будь покоен, если бы мы пришли к власти, и тебе, и твоим родителям жить было бы легче. Тем лучше. Зато мы у тебя есть, сынок Бернабе. Он сказал шоферу, чтобы тот заехал за ними к пяти, и вместе с Бернабе вошел пообедать в один из тех ресторанов в Розовой Зоне, на которые Бернабе только косился со злостью в не столь давнее воскресенье. Все метрдотели и официанты склонились перед ним, как служки на мессе: сеньор лиценциат, ваш столик накрыт, вот здесь, к вашим услугам, сеньор, что пожелаете, угодник Хесус Флоренсио, поручаю сеньора лиценциата твоим заботам. Бернабе понял, что шефу нравится рассказывать о своей жизни, как он с городских задворок сразу махнул в большие начальники — без всяких книжек, но горя желанием сделать великой свою родину, вот так-то. Они ели устрицы, запеченные в тесте, и пили пиво, когда их трапезу прервал Белобрысый и что-то сообщил, и шеф его выслушал и велел привести сюда этого сукина сына, а Бернабе — продолжать спокойно обедать. Сам шеф преспокойно сыпал своими историйками, когда вернулся Белобрысый с прозрачного вида сеньором в хорошем костюме, шеф сказал ему всего-то несколько слов: добрый день, сеньор министр, сейчас Белобрысик вам скажет все, что вам следует знать. И шеф церемонно принялся за своего омара по-французски, а Белобрысый схватил министра за галстучный узел и наградил его отменной бранью, мол, надо уважать сеньора лиценциата Карреона, нечего ломиться к сеньору президенту, такие вопросы сначала решает сам сеньор лиценциат Карреон, и не след забывать, кому местом своим обязан сеньор министр, о’кей? А шеф не глядел ни на Белобрысого, ни на министра, только на Бернабе, и в его взоре Бернабе прочитал то, что должен был прочитать, то, что шеф желал, чтобы он прочитал: ты тоже можешь стать таким же, ты можешь так же лягать самых-самых, безнаказанно, Бернабе. Шеф попросил убрать остатки омара, и Хесус Флоренсио, официант, было проворно склонился перед сеньором министром, но, взглянув на лицо сеньора лиценциата Карреона, предпочел не заметить сеньора министра и заняться грязными тарелками. Поскольку больше не с кем было переглянуться, Хесус Флоренсио покосился на Бернабе, они встретились взглядами. Бернабе пришелся по душе этот официант. Почувствовал, что с ним можно перекинуться словом, они сделались как бы сообщниками. Хотя Хесус Флоренсио кланялся и угодничал, как и все, он сам зарабатывал себе на жизнь и его жизнь принадлежала только ему. Бернабе об этом узнал, потому что потом они виделись, Хесус Флоренсио проникся симпатией к Бернабе и предупредил его: будь осторожен, а если захочешь работать официантом, я тебе помогу, политика — дело хитрое, министр тебе не простит, что ты видел, как его унизил лиценциат, а лиценциат тебе не простит, если ты когда-нибудь увидишь, как унизят его.
— Во всяком случае, поздравляю. Думаю, тебе повезло, парень.
— Думаешь, друг?
— Меня не забудь, — улыбнулся Хесус Флоренсио.
ПедрегальТам Бернабе сразу почувствовал — знатное это место. Шеф привез его в свой дом на Педрегале и сказал, располагайся, знай: я тебя взял к себе, ходи где хочешь, подружись с ребятами из кухни и из служебного помещения. И Бернабе пошел бродить по дому, где службы находились на уровне земли, а в жилые комнаты надо было идти не вверх, а вниз — несколько лестниц из красного цемента спускались в своего рода кратер, вели к спальням и кончались в обширном зале с бассейном посередине, вырытым в этом домашнем подземелье, где лампы лили свет из-под воды и с голубого свинцового потолка, служившего кровлей жилищу. Супруга лиценциата Карреона была толстушкой с смоляными кудрями и медальками с изображениями святых под двойным подбородком, на груди и на запястьях, и когда она его увидела, сказала, террорист он или охранник, явился сюда выкрасть их или стеречь, — все одно голоштанник, все они одинаковы. Сеньора весело и громко рассмеялась собственной шутке. Она издали возвещала о себе смехом, словно фанфарой, как Белобрысый своим транзистором, как Осел своим ревом. Бернабе ее часто слышал первые два — три дня, когда шатался, как идиот, по дому в ожидании вызова шефа и работы и рассматривал фарфоровые безделушки, витрины и вазы, и наталкивался на каждом шагу на улыбчивую сеньориту — так же, говорят, улыбался его папа, Андрес Апарисио. Как-то к вечеру он услышал музыку, сентиментальные болеро в часы сьесты, и на него нашла томность, охота покрасоваться, как там, перед зеркалами, в отеле Акапулько, нежная и грустная музыка его манила, но, когда он поднялся на второй этаж, заблудился и через одну из ванных комнат попал в гардероб с дюжинами кимоно и пляжных туфель на каучуковых каблуках, увидел приоткрытую дверь.
Кровать, огромная, как в отеле Акапулько, была накрыта тигровыми шкурами, у изголовья стояла тумбочка с подсвечниками и изображениями святых, а под ней — аппарат с кассетами, точь-в-точь как у Белобрысого в его подержанном «тандерберде», а на шкурах лежала сеньора Карреон, в чем мать родила, только с медальками, одну из которых, в форме морской раковины с золотой инкрустированной фигуркой Святой Девы Гуадалупе, сеньора положила себе на живот, шеф Мариано подбирался к ней, а сеньора заливалась кокетливым хрипловатым смехом пятидесятилетней матроны и говорила: нет, мой любименький, нет, мой король, имей уважение к твоей святой девочке, а он причитал, глядя на нее: ах ты, моя толстенькая блудница, ах, моя святая распутница, моя богиня с перламутровыми кудрями, любовь моя, а из магнитофона сочилось нескончаемое болеро: «не целовать мне твоих алых губ, пурпур жаркого ротика, не для меня сумасшедшая глубь твоей жизни источника».
Парни из служб и с кухни говорили ему: сразу видно, что ты шефу потрафил, малый, пользуйся, с ним сам дьявол не страшен. Только, если сможешь, мотай из бригады, опасная там работа, увидишь. А здесь, на кухне и в служебной части, горя не знаешь. Белобрысый ходил по служебному помещению, отвечая на телефонные звонки, и однажды пригласил Бернабе прокатиться на «ягуаре» молоденькой сеньориты, дочки супругов Карреон, — она учится хорошим манерам у монашек в Канаде, а ее машину надо иногда обкатывать, чтобы не застаивалась. Он сказал: ребята правы, шеф тебя отличил и приблизил. Пользуйся случаем, Бернабе. Ты втерся к нему в доверие и можешь обеспечить себя на всю жизнь, говорил Белобрысый, то бросая «ягуар», то придерживая, будто готовил лошадь для скачек, верно говорю, на всю жизнь. Главное — наматывай на ус разговоры, и тогда тебя голыми руками не взять, ты любого схватишь за горло, а тебя не взять, разве только прикокнуть. Если козырнешь правильно, у тебя все будет, деньги, бабы, машины, и жрать будешь, как они. Но ведь шеф Мариано учился, ответил Бернабе, сначала он стал лиценциатом, а потом нажился. Белобрысый его на смех поднял и сказал: шеф нигде не учился, кроме как в начальной школе, а лиценциатом его величают, потому что в Мексике так называют всякую важную персону, даже если человек не то чтобы учебник — обложку от учебника в глаза не видел, не будь кретином, Бернабе. Знай, что каждый божий день родится миллионер, который захочет, чтобы ты охранял его жизнь, его детишек, его денежки, его камешки. А знаешь, почему, Бернабе? Потому что каждый день родится и с тысячу таких шкетов, как ты, готовых дать под зад богатому, который родился в одно с тобой время. Один против тысячи, Бернабе. Знаю, выбирать нелегко. Но если будем сидеть там, где родились, далеко не уедем, затопчут. Лучше идти с теми, кто топчет, два санога — всегда пара, да еще какая, верно?