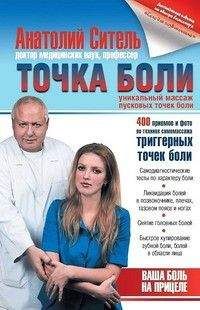Альберто Мендес - Слепые подсолнухи
Мое жилище разделено коридором на две части. И весь дом тоже поделен на две половины: комнаты с балконами, выходящими на улицу Алькала, — лучшая часть дома, и более скромные, выходящие окнами на улицу Айяла. Мы заселили эти последние.
Я изучил весь наш дом пядь за пядью. Самое сильное впечатление на меня всегда производили окна, которые непрерывно угрожали нашей жизни, хрупкому отдыху в кругу семьи. Если окна были открыты, только я имел право громко разговаривать с матерью. Ночью я должен был дождаться ухода отца из комнаты, чтобы наконец включить в ней свет. Все эти игры со светом и тишиной иногда разрушались третьей составляющей, которая заставляла затаиться первые две, — шумом лифта.
Пока лифт добирался до нашего, четвертого этажа, мы получали немного времени, чтобы все хорошенько взвесить и прикинуть, что к чему. Если лифт добирался до третьего и продолжал карабкаться выше, все, затаив дыхание, вслушивались, где он остановится. И когда лифт замирал на нашем, четвертом этаже, время не просто коченело мерзлой ледышкой, но словно каменело, воздух застывал недвижной скалой, пока не слышался звонок в одну из еще трех дверей на лестничной площадке. Среди грохота, позвякивания, среди всех голосов, среди всех звучащих проявлений жизни, доносившихся до нас извне, — и мой отец, и моя мать, и даже я, мы все наловчились безошибочно определять, что несет с собой звук: безусловную опасность или обыденное свидетельство жизни. Никто никак не реагировал на тишину замершего в шахте лифта. Никто никогда не удивлялся тому, что мой отец, если вдруг кто-то звонил к нам в дверь, скрывался в шкафу. Отец исчезал в стенном шкафу позади туалетной комнаты, где по обе стороны от большого зеркала стояли две маленькие тумбочки.
Шкаф, по правде говоря, был создан вовсе не для этой цели. До войны он иногда использовался как временная спальня. Сейчас его внутренность больше выглядела квадратной, хотя замысливалась треугольной. На одной из перегородок крепилось зеркало в раме из потемневшего красного дерева. Зеркало крепилось для большей устойчивости к стене, почти достигало пола и служило потайной дверцей в шкаф-каморку. Человек мог в ней расположиться довольно свободно, мог даже без особых трудностей лежа вытянуться полностью или выпрямиться, стоя во весь рост. Запоры потайной комнаты были искусно замаскированы большими деревянными четками с крупными зернами и серебряным распятием. Как и положено, на кресте — измученный Христос, на Его лице застыла такая боль, что я старался никогда не оставаться наедине с Ним в этой темной комнате.
В каморке также возвышались две железные кровати с никелированными спинками. Изголовья украшали металлические виноградные лозы со стеклышками. У стены — трехстворчатый шкаф. Среднюю створку занимало большое зеркало, которое было одним из моих сновидческих развлечений. Я представлял себе чудесный мир, где все поменялось местами и моя правая половина стала левой и наоборот. Вспоминаю, что отец часто замечал мое замешательство, которое я испытывал «при смене точки зрения на порядок вещей». В этом шкафу хранились моя одежда и вещи матери. Все пропахло нафталином. А отец свои вещи хранил в своей каморке. Я сохранил в памяти запах его тайного убежища. Время от времени опознаю его в убогих кухнях, в грязных ногтях, в потухших взглядах, в незнающем жалости приговоре врачей, в униженных и раздавленных жизнью людях, в будках квартальных. В тюрьмах так не пахнет. Там пахнет щелоком и хлоркой, и это запах холода.
Я ощутил себя пастырем. Был счастлив, осознав, что кто-то отбился от моего стада. Господи, падре, если бы Вы только знали, как еще далек я был от прозрения: я не настоящий пастух, я — истинный волк! Подобно Боссюэ[38] я наполнил собственный фиал, из которого вознамерился напоить страждущих тайн Господних. Я стал искать с ними встреч.
Больше никогда я не заставлял мальчика петь, хотя его уловки не оставались не замеченными мной. Каждый вечер, нарушая строй, ученики с шумом бросались к воротам. Я постоянно следил за поведением Лоренсо, неоднократно встречался с его матерью. Поначалу мы ограничивались лишь сухими приветствиями, мало-помалу начали обмениваться замечаниями по поводу мальчика, после делились соображениями о беспокойном детстве, о миссии преподавателя, о многом другом, что, как я полагал, ведет к правильности становления души.
Я, падре, замечал, что рядом с ней испытываю наслаждение. Но при этом полагал, что если Господь хочет послать человеку подругу, похожую на Его первое творение, adjutorium simili sibi[39], то Его воля проявляется и в том, чтобы я испытывал наслаждение. Лоренсо рядом с нами хранил молчание, но при этом всегда старался встретиться взглядом с матерью. Я же ничего вокруг себя не замечал. Я всего лишь радовался и получал удовольствие, глядя на эту сыновью любовь и преданность, которые возбуждала матушка в юной душе. Смола довольно густа и темна, чтобы можно было без усилий проникнуть в ее глубины, падре.
Не стану отрицать, что подспудно я видел в Элене ее прародительницу Еву. Но не прекрасную, чистую, утонченную Еву, которую сотворили для того, чтобы она пленяла сердце мужчины и вместе с ним воспаряла в горние выси навстречу Богу. Нет, не такую. Скорее, Еву падшую, обнаженную, мучащуюся, первую проповедницу зла. И все же, несмотря на это, для меня стали ежедневным ритуалом прогулки в компании с Лоренсо и его матушкой по пути домой. Было в Элене нечто такое, что заставляло высвобождать страхи и борения внутри меня самого. Да, все же были в моей жизни счастливые моменты в пору службы диаконом в нашем колледже.
— Больше наш сын в этот колледж не пойдет. Скажи им, что он заболел.
— Это будет подозрительно.
— Но не можем же мы прямо заявить, что внимание святого отца к нашему сыну подозрительно и беспокоит нас. Надо поменять колледж или что-нибудь в этом роде.
— Вдвоем мы выдержим домогательства этого Божьего помазанника, не беспокойся.
Каждое утро мальчик проявлял чудеса изобретательности, отыскивая предлог не ходить в колледж. Однажды он так старательно принялся кашлять, что в конце концов зашелся в кашле и его вытошнило только что съеденным завтраком. В другой раз он симулировал столь невыносимую головную боль, что не в силах был держать голову и уронил ее на грудь. Матушка не сдавалась и терпеливо, с нежностью, одевала и обувала сына. Хотя иногда дело доходило и до слез.
Когда симуляция не приносила должного результата и отправка в колледж становилась неизбежностью, жалобы сменялись пассивным сопротивлением, мальчик изо всех сил затягивал момент выхода из дому: то ему надо было срочно кое-куда, то, не торопясь, он направлялся к отцу за утренним прощальным поцелуем или возвращался в комнату за тетрадками, а потом долго укладывал их в кожаный ранец.
У ворот колледжа Элена легонько подталкивала сына и не забывала заговорщицки шепнуть ему на ухо:
— Мы должны быть сильными, чтобы помочь папе. Мы ему очень нужны.
Затем она направлялась к ограде, за которой школьный хор выводил высокими детскими голосками «Снежные вершины» или патриотический гимн. Ежедневный будничный ритуал начинался именно с этих нежных голосков, восхваляющих неизвестные победы и свершения непонятными для детей словами. Это были времена, когда никто даже и не пытался понять, что же произошло.
Элена куталась в теплый плащ с широким бархатным воротником. Простившись с сыном, возвращалась к перекрестку улиц Алькала и Гойя. Там спускалась в метро. Обычно она пользовалась подземкой, чтобы добраться до Аргуэльеса. В четырех кварталах от станции располагалась контора фирмы «Хелис». Совместное испано-германское государственное предприятие оказывало некоторые услуга другим государственным предприятиям, занимавшимся воздушным извозом. Здесь Элену дожидался очередной заказ: необходимо было срочно сделать еще один перевод.
Работа давала не только заработок, но позволяла Элене раз в неделю разжиться в армейской лавке, обслуживавшей летчиков, парой буханок белого хлеба. Прибавка к рациону невелика, но все же хоть что-то сверх того, что полагалось по продуктовым карточкам. Тем более карточки выдавались только ей и сыну, на двоих.
На самом деле тексты переводил муж, которому было в радость немного облегчить жене и сыну тяжелую ношу. Переводы он перепечатывал на огромном черном ундервуде. Фабричный логотип блестел золотом букв. Пока Элены не было дома, Рикардо писал перевод от руки, а когда жена возвращалась домой и принималась за шитье на черном, сверкающем никелированными деталями зингере — чугунная махина на деревянной подставке была украшена витиеватыми, причудливыми узорами в стиле модерн, — тогда он принимался быстро печатать на машинке, заправив три листа, переложенных копиркой. Стрекот швейной машинки заглушал дробь пишущей. Элена еще и успевала подрабатывать в бельевой лавке на улице Торрихос. Работа требовала изрядной аккуратности и усердия. Заработки позволяли содержать дом. Сеньора Клотильда, владелица бельевой лавки, всегда отдавала дань филигранно выполненной работе Элены, но расценки не увеличивала. Тарифы оставались неизменными.