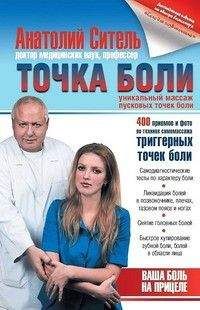Альберто Мендес - Слепые подсолнухи
Сейчас я могу уже говорить обо всем об этом, хотя мне стоит немалых усилий вспоминать. Вовсе не из-за того, что в памяти исчезли остатки прошлого, а из-за мерзкого, отвратительно-тошнотворного чувства, которое поднимается во мне при мысли о детстве. Вспоминаю те далекие годы и вижу их, словно они нескончаемая череда, живущая только в отражении зеркал, ощущаю, словно они череда печальных событий, которые непременно принесут мне невыносимое страдание. И одновременно я наблюдаю за ними со стороны. По эту сторону зеркала все притворно и фальшиво. По другую — то, что случилось в действительности. Сейчас то, что я помню из детства, пугает меня, потому что с годами приходит осознание: если бы не был ребенком, то, что случилось, никогда бы не произошло.
Когда-то существовал целый мир, который назывался улица Алькала, дом № 177, четвертый этаж, комната «С». Это были мои земли. Эта планета была моей огромной вселенной и одновременно западней. Треугольный квартал в перекрестье улиц Алькала, Монтеса и Айяла. Квартал, у которого никогда не было завершающей, четвертой стороны, как у всех прочих кварталов, он был моей вселенной, моим космосом! Чуть дальше располагались и другие галактики: улица Торрихос-и-Гойя, с одной стороны, с другой — сумрачный мир Фуэнте-дель-Берро и площадь Мануэля Бесерра, там жили дети из семей даже беднее нас, к которым мы испытывали взаимную и не оправданную ничем ненависть, но, впрочем, объяснимую. Тогда в этом было нечто от бунта, юношеского мятежа: улицы, мяч, волчок, стиральные резинки и друзья. А еще помню переулок, стерильно чистый, он вел из колледжа Святого семейства к маленькому особняку на углу улиц Нарваес и О’Донелл. Этой дорогой я пробегал один или с компанией за четверть часа тысячи раз. И все же этот путь был не самым привычным, даже каким-то чужим, оттого не могу сегодня в точности его вспомнить. Единственное, что четко отпечаталось в моей памяти: когда я возвращался в свой квартал, я возвращался в свою родную вселенную.
Но ярче всего врезалось в память: мой папа прячется в шкафу.
Сегодня, падре, я знаю, что меня привлекло в этом мальчике, что его отличало от других: он больше грустил; нежели радовался, но грустил как-то невозмутимо, с хладнокровием, вовсе не свойственным его юному возрасту. В его играх не было места ссорам и дракам, в его послушании не было ни тени безоговорочной покорности, а были тяга к знаниям, и гордость за себя, оттого что удалось узнать нечто новое, и умение хранить тишину и молчание… Быть может, он мне напоминал о моем детстве, наверное, с ним, школьником, я вновь проживал свое детство. Я думал, что стану добрым пастырем в нашей Церкви. О, я несчастный!
Мне удалось подметить некоторые странные особенности в характере мальчика: вспоминаю, дети вечером по окончании занятий выстраивались перед выходом из колледжа, затягивали воинственную «Лицом к солнцу», будто славное завершение еще одного учебного дня, — но Лоренсо не с ними, он не поет и не разделяет всеобщего воодушевления, которым переполнены его однокашники. Но он всегда был осторожен. Однажды, незаметно для мальчика, я подошел к нему сзади и с удивлением понял: мальчик вместе со всеми стоял по стойке «смирно», подняв руку вверх, открывал рот и шевелил губами, но при этом не издавал ни звука. Мы требуем любви к Родине, а он молчит!
Я наказал мальчика тут же, во дворе, поскольку он не пел гимн. Но он так и не запел. Он стоял по стойке «смирно», подняв руку вверх, но не выдавил из себя ни слова. Не знаю, что меня толкнуло, то ли ярость и раздражение от его непокорности, то ли возможность подчинить своей власти нечестивого сына века неверия. «Пой! — приказал я ему. — Это гимн тех, кто готов отдать жизнь за Робину!»
«Мой сын не желает за кого-то умирать, он хочет жить ради меня», — послышался мягкий, медоточивый голос у меня за спиной. Я резко обернулся — за моей спиной стояла она.
Только сейчас я понимаю фразу из Екклесиаста: «Взгляд прекрасной женщины, лишенный добродетели, обжигает, словно огнем». Тогда я еще не отдавал себе отчета, что в этот миг родилось мое безумие.
Уложив сына спать, родители в тишине устроились на кухне, залитой полумраком. Тишина была частью разговора, который они вели вполголоса, оба не давали воли своим жалобам и стенаниям. Хотя окно смотрело в маленький глухой двор, куда выходили только кухонные оконца, все равно оно было занавешено толстой бархатной шторой синего цвета. Штора напоминала о других, далеких временах, когда здесь, у стены, возвышался буфет с резными филенками, откуда выглядывали благородные средневековые рыцари, а на полках стопками громоздились тарелки английского фарфора и необычная рыбка синего стекла из Мурано. Теперь это осталось лишь в воспоминаниях. Все, что можно было продать, уже давным-давно продано. Супруги перешли в комнату, свет не зажигали. Тусклый луч через полуоткрытую дверь пробивался из коридора и едва освещал комнату. Родителям не хотелось, чтобы кто-то догадался или ненароком заметил: в доме обитают двое взрослых людей.
Мало-помалу свет дня становился ярче освещения в жилище. Рикардо Масо передвигался по дому, стараясь не подходить близко ни к балконам, ни к окнам. Комнаты в глубине квартиры выходили окнами на улицу Айяла. Прямо напротив располагался кинотеатр «Алжир», в столь ранний час совершенно пустой. Рикардо нравилось в это время суток, конечно с соблюдением максимальных предосторожностей, следить за жизнью вне квартиры, смотреть, как люди снуют по просторному городу, полному разговоров, приветствий, суеты и спешки, невозмутимости и расчета, — все это Рикардо чувствовал своим, словно это он спешит, суетится, разговаривает, выжидает. В вечерних сумерках он не позволял себе роскоши появляться на свету, следил за тем, чтобы даже в коридоре свет не горел. В темноте, на ощупь, пробирался на кухню или в ванную, иногда натыкался на своих, пугая жену и сына. Прикладывал немало усилий, лишь бы не оказаться в круге света.
— Я должен бежать отсюда. Постараюсь добраться до Франции.
В полумраке Элена нащупала на столе руки мужа. Не было нужды снова и снова повторять, что сейчас это невозможно, что надо немного обождать, пока не утихнет яростная волна кровожадной мести, что правительство Виши[34] наверняка депортирует обратно испанских эмигрантов, что бежать всем вместе — они, двое взрослых и сын, — невозможно. Нет, решительно нет. Нельзя разъединять семью, и так уже поредевшую. Их старшая дочь, тоже Элена, сбежала в конце войны с каким-то юнцом-поэтом. Они не имели ни малейшего понятия, где она, что с ней. Страшно даже самим себе задать вопрос, жива ли она.
На восьмом месяце беременности их дочь сбежала из Мадрида незадолго до окончания войны. Сбежала, последовав за начинающим поэтом, который весь преображался, декламируя строки Гарсиласо.
Юноша опубликовал парочку собственных стихотворений, по его словам, в стиле Пиндара[35], в «Мундо обреро»[36], еще пару — в каких-то многотиражках Народной армии и побоялся, что за них его могут посадить. Поэт и их дочь скрывались в доме старой служанки родителей Элены, Эулалии, до тех пор, пока не представилась возможность тайно покинуть Мадрид в грузовике, в обнимку с коровьими тушами, которые везли в Вальядолид. С тех пор о них никаких известий. Родители утешали себя мыслью, что им все же удалось скрыться за границей.
Привычка говорить вполголоса понемногу укорачивала фразы, сокращая беседу до едва уловимых жестов и взглядов. Безмолвный страх размывал и без того неясное звучание слов, и тогда единственным способом донести в кромешной тьме свою мысль до другого становилась сама тишина.
Падре, я был простодушен и наивно полагая, что все вещи в мире имеют свое название и, следовательно, давно классифицированы, упорядочены и аккуратно разложены по полочкам. Я думал, что именно на этом покоится гармония. Для меня было достаточным, что вещь имеет свое собственное имя, что описание того или иного ощущения, если речь заходила о милости Божией или вечных муках, можно отыскать в Словаре священного образования. Но оказалось, есть пространства, падре, ничейные земли, где нет места ни греху, ни каре, ни добродетели, ни воздаянию. Если бы мне надо было нарисовать карту этих земель, я вычертил бы ее толстой черной линией и по праву первооткрывателя назвал бы ее Эленой. Элена была и остается матерью Лоренсо. Voluntas bona, amor bonus; voluntas mala, amor mala[37]. Как бы удивился святой Фома причудливости и замысловатости моей карты! В каждом пейзаже найдется уголок, полный туманной неразличимости, который невозможно объяснить привычными законами простой географии. Падре, в нашем бытии есть темная точка, которую никогда не исследовали Отцы Церкви: между святым и мерзким простирается огромное поле, где не разрешается проблема Добра и Зла. Двойственное пространство. Теперь я знаю, оно принадлежит сынам Адама. Надо быть возлюбленным сыном Господа, чтобы уметь не выбирать между божественным и его противоположностью. Я всего лишь сын человеческий, падре, сын первородного греха, за которым неминуемо следует проклятие.