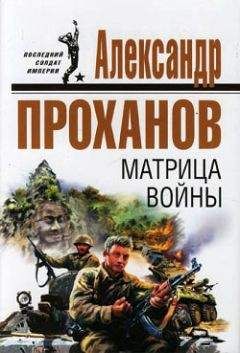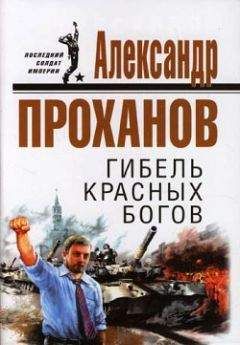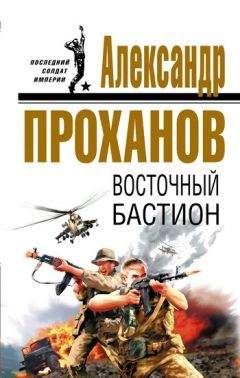Александр Проханов - Выбор оружия
– Предлагаю тост за советско-ангольскую дружбу! – Кадашкин поднял стакан, направляя его в океан, навстречу кораблю, возвращая обратно к африканскому берегу, к низкому отлогому побережью, к которому медленно, неуклонно приближался корабль. – За дружбу советского и ангольского народов!
– И кубинского! – добавил Аурелио, подымая целлулоидный стаканчик.
Он хотел еще что-то сказать, но, заглушая его грохотом, свистом, раздирая воздух пустыни, прянули от солнца две тени. Глаза успели поймать среди пыльного бесцветного неба два уносящихся треугольника. Самолеты, уменьшаясь, прошли над побережьем и взмыли, оставив две белые кудрявые дуги. Было тихо, и только таяли два голых стебля, с которых сорвались и умчались самолеты.
– Я предлагаю тост за анголо-кубино-советскую дружбу! – Аурелио держал свой целлулоидный стаканчик. – Ричард, присоединяйтесь!
Маквиллен уже опустил бинокль, овладев собой, веселый, компанейский:
– Как частное лицо, охотно присоединяюсь к вашему союзу. Увы, на большее Претория меня не уполномочила.
Опять чуть слышно зазвенело вдали. И сразу из неба упала стена рева и грохота. Два «МиГа» с кубинскими опознавательными знаками, пятнистые, серо-зеленые, ринулись на побережье. Пикировали на россыпи рыжих камней. Мерцали в хвостах раскаленными соплами. Обрабатывали берег из пушек. Взлохматили два мучнистых взрыва и взмыли свечой, повесив над океаном белые иероглифы. Берег, к которому приближался корабль, был плацдарм десантирования. Штурмовики с кубинского аэродрома обрабатывали место высадки.
– За кубинских летчиков! – сказал Кадашкин. – За ангольские бригады! За советскую морскую пехоту!
– За партизан Намибии! – Аурелио протянул стакан к Маквиллену, дразня его своим тостом.
– За Сэма Нуйому! – весело отозвался Маквиллен. И они выпили водку, сидя на высоких уступах, наблюдая полукруглое, похожее на арену, побережье, к которому приближался корабль.
Они сидели на горячих камнях, поджидая корабль. Он двигался медленно, как часовая стрелка, и время, связанное с кораблем, казалось почти неподвижным. Одно усилие воли, жаркий удар сердца, напряженное давление зрачков, и время покатится вспять, оттолкнется от этой секунды, от жаркого песчаного побережья, от металлического, как ртуть, океана. Устремится обратно, к своему истоку, когда оно зародилось в его детских глазах, узревших вдруг черно-красный орнамент на бабушкином старинном ковре, драгоценные золотые шерстинки, и мама наклоняет над ним теплое, чудесное, любимое лицо, щекочет его солнечными волосами.
Он испытывал головокружение, словно голова его вмещала в себя нечто прозрачное, плещущее, как сосуд, в котором волновалось время. Омывало стенки сосуда, готовое выплеснуться наружу. Плески и волны времени порождали головокружение, словно это уже было однажды, он уже сидел на горячих камнях побережья, и на бирюзовой фольге океана к нему приближался корабль.
Были различимы контуры рубки, белые каплевидные радары, солнечная рябь на бортах. Плоско срезанный нос упирался в воду, гнал перед собой бурун. Чувствовалась скрытая в корабле упрямая сила, распиравшая его изнутри, стремившаяся наружу, готовая вырваться из металлических оболочек на солнечный свет.
– Если бы я был военным репортером, как ты, Виктор, я бы непременно послал репортаж в наши центральные газеты. «Русский десант в Южной Африке». Уверен, это была бы сенсация. – Маквиллен жадно, счастливо смотрел на корабль, словно восхищался его прибытием, дорожил самой возможностью присутствовать при невероятном событии. – Должно быть, для тебя это настоящее журналистское чудо.
Белосельцев не ответил ему. Он присутствовал одновременно в двух измерениях, в двух протяженностях времени. В одном из них десантный корабль подходил к африканскому берегу, застывал на синей воде. В корпусе у него, в носовом плоском скосе, начинала открываться темная щель, раздвигались створы, растворялись стальные ворота. В другом, параллельном, времени протекала его, Белосельцева, жизнь, от младенчества, когда солнце из-за шторы лилось в его детскую кроватку, слепило и он не мог рассмотреть нарядный, занимавший его предмет. Позже, через несколько лет, предмет оказался фарфоровой статуэткой, изображавшей французского кавалера в камзоле и шляпе с разноцветным плюмажем. Глаза его увлажнились, но усилием воли он вернулся в реальность.
Корабельные створы раскрывались, как пасть. Из них медленно вываливался плоский язык аппарели. По этому языку из черного зева стали выползать бэтээры. Попадая на солнце, влажно вспыхивали гранями. Кидали голубые дымки, соскальзывали в воду. Качались, как плавунцы. Начинали плыть, удаляясь от корабля, вытягивая за собой мерцающие клинья воды. Головные уже плыли среди открытой воды, выстраивались в две волнистые дрожащие линии, а сзади все появлялись, соскальзывали в воду машины, словно юркие прожорливые жуки, родившиеся из личинок под железной шкурой корабля. Последними упали в воду четыре танка, плоские, как лягушки, плюхнулись, тяжко заколыхались, выставив над башнями длинные пушки, оплавленные слюдяной сверкающей кромкой.
Бэтээры шли к побережью, колыхались, как поплавки. На одном из них замерцало, словно кто-то осколком зеркала направлял на берег солнечный зайчик. Длинная долбящая очередь донеслась от воды. Ее настигла другая. На бэтээрах танцевали, мерцали зайчики. Машины были связаны между собой хрупкой гирляндой вспышек. Пулеметы обрабатывали невидимые цели на суше, готовились к высадке.
Маквиллен жадно смотрел, прикладывал руку к бровям. Его губы беззвучно шептали, словно он пересчитывал плывущие машины. Белки дрожали в глазницах, словно он фотографировал изображение бэтээров и танков, превращал их в импульс энергии, отсылал в пустыню, где их принимали, расшифровывали, считывали изображение.
Колеса головных бэтээров касались дна. Машины, как морские животные, солнечные, глазированные, подымались из воды, сбрасывая с брони водяные струи. Цеплялись скатами за прибрежные камни, подскакивали на выбоинах, медленно продвигались вперед. Танки, как черепахи, выползали на сушу, и два из них гулко грохнули, раскололи пустыню, взлохматили ее двумя мучнистыми взрывами.
– Когда-то мы с Фиделем плыли на плоскодонках из Никарагуа на Кубу, из Пуэрто-Кабесас на Плая-Хирон. – Аурелио с восхищением смотрел на десант, и его шрам на щеке наполнился молодой розовой кровью. – Нас было мало, у нас были только винтовки и пулеметы, и мы плыли освобождать нашу родину. Теперь нас много, у нас есть самолеты, десантные корабли и космические станции, и мы идем освобождать Африку.
Легкая судорога пробежала по лицу Маквиллена, и он перевел ее в вымученную улыбку.
– Даешь «Буффало»! – Кадашкин был возбужден, двигал сильными тугими плечами, сжимал кулаки, словно помогал бэтээрам взбираться на склон, давил на корму медлительных танков, выталкивая их на берег. – Вот бы сюда этот чертов «Буффало»! Содрали бы с него шкуру морпехи!
У бэтээров открывались люки. Из них, как черные колючие семена, сыпались пехотинцы. Падали, лежа стреляли. Вскакивали, бежали за кормой бэтээров с автоматами наперевес, посылая в бледные небеса мелкие пересекающиеся автоматные трески. Вытягивались в нестройные редкие цепи, карабкались на склоны, сопровождаемые медленными машинами, прорубавшими проходы пехоте.
– Давай, мужики, давай! Врежь им, мать твою так-то! – крикнул Кадашкин по-русски. Маквиллен удивленно и зло оглянулся на его веселый рык.
Пехота уходила вперед, оставляла позади бэтээры. Над темной колеблемой цепью внезапно вознеслось, прянуло ввысь, залетало на горячем ветру морское сине-белое знамя, и сквозь жаркий воздух пустыни полетело негромкое, рокочущее «ура».
Белосельцев почувствовал, как взметнулась его душа, исполненная сладчайшей боли и любви к пехотинцам, что бежали по белым камням пустыни, несли по ветру военное знамя. Он стоял на берегу Африки и, ликуя, смотрел на знамя, по щекам его бежали жаркие слезы.
Глава восьмая
Они вернулись в Лубанго к ночи, и в номере, куда он вошел, по-прежнему не было воды. Бархатная красная штора казалась отяжелевшей от пыли. Мутно освещенная кубатура комнаты напоминала кусок застывшего стеарина. Он устал, хотелось кинуться в широкую постель, под тяжелое покрывало и забыться, заснуть. Но не было сил шевельнуться. Его щеки горели от ударов колючих песчинок, воспаленно пламенели от лучистого ожога пустыни. Затылок слабо ныл от удара. Пол под ногами едва ощутимо колыхался, словно плот, под которым бежала вода.
Бабочка с пепельными разводами, с голубыми овалами, похожими на кошачьи глаза. Черные маски с прорезями, в которых мерцают белки, шевелятся красные губы. Рыбы в голубой глубине, колеблемые золотистой бегущей рябью. Корабль в сиянии вод, возникший из лучей и туманов. Плывущие в воде бэтээры, мерцающие зеркальца выстрелов. Черная цепь пехотинцев и над ней, бело-синее, волнуется знамя. Эти зрелища наполняли его память, как чашу. Украшали ее выпуклые стенки вместе с другими изображениями, оставшимися от прошлой жизни. Его первая женщина, белая, теплая, на темном душистом сене. Мертвая бабушка в тесовом гробу с букетом холодных лилий. Синее карельское озеро, окруженное желтым осенним лесом.