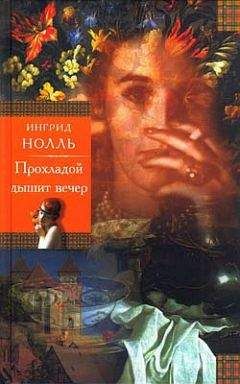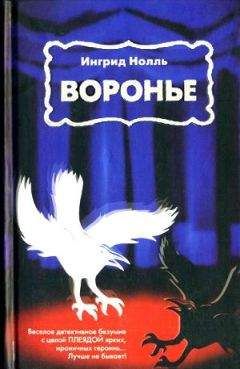Ингрид Нолль - Прохладой дышит вечер
Как же нам было стыдно, когда этот сморкающийся господин заявился в спальню с бумагами под мышкой и остолбенел, к тому же он был еле живой от насморка. Я натянула одеяло на голову и замерла. Хуго должен был знать, как кавалеру положено выходить из такой ситуации.
Хуго откашлялся, чтобы произнести речь. Аллергик перепугался, ударился в панику, завопил не своим голосом, стал звать на помощь. Насморк его тут же прошел.
— Не будете ли вы так любезны передать мне мою рубашку, — вежливо попросил Хуго, — она за комодом.
Шпирвес повиновался и, там же за комодом обнаружив мою нижнюю юбку, подумал, что Хуго тут развлекается с Миле.
— Где мое ружье?! — возопил он и прибавил что-то, если не ошибаюсь: «Мерзавка!»
В отчаянии он рылся в шкафу в поисках ружья. Я знала, что Миле уже обменяла ружье на продукты, и попыталась успокоить разгневанного ревнивца:
— Шпирвес, ты, это, ну, извини, а? Ужасно неудобно получилось. Мне Милочка ключ дала. Ну, вдруг дождик пойдет, так я бы зонтик взяла у вас тут, хм… Я за ним и пришла. А, кстати, вы не знакомы еще?..
Мужчины пожали друг другу руки, один процедил свое: «Очень приятно», другой — «Я тоже очень рад». Хуго сунул мне под одеяло мои шмотки, так что я встала уже одетой. Шпирвес был так счастлив, что жена ему все-таки верна, что брак его не осквернен и что мы с Хуго оказались не ворами-взломщиками, что на радостях откупорил бутылку хлебной водки. Через некоторое время Милочка обнаружила нас троих, пьяных, сидящими на софе. Когда мы прощались, Шпирвес бормотал:
— Вы уж меня извините, я, это, ну, ругался тут словами разными! Ну да вы сами понимаете, что я подумал, когда вас увидел. Вы в другой раз кровать-то застелите свежим бельем.
Помнит ли Хуго эту историю? Мы потом еще много раз смеясь вспоминали, что тогда нес Шпирвес. Так что я не намерена теперь произносить при Хуго имя Милочки.
Когда Хайдемари уехала в Гамбург в помощницы к мужскому парикмахеру, маменька задумалась, не перебраться ли ей к Иде во Франкфурт. В конце концов она покинула деревню ради больной дочки. Невестка моя Моника собиралась замуж за спокойного скучного беженца из восточных земель. Мамуля, видимо, не хотела мозолить молодым глаза, зато уж мне досталось! Антон ей нравился, но она тут же просекла, что он в моем доме — совершенный подкаблучник. Переехав во Франкфурт, мама наносила нам визит чуть ли не каждую неделю. Ее, конечно, очень тянуло в родные места, но она старательно избегала заходить в разбомбленный центр города, где когда-то стоял наш дом с обувным магазином.
Болезнь иногда отпускала Иду, и она чувствовала себя вполне сносно. Не успел Хуго обзавестись собственным книжным магазином и начать получать чуть больше денег, как она стала покупать дорогие платья. Это мне мама рассказала. Хуго о семейных проблемах особо не распространялся.
Между тем мы по-прежнему встречались, но уже не у Милочки. Новые условия были, прямо скажем, не много лучше: в обеденный перерыв Хуго отсылал перекусить своего помощника, запирал двери, и мы с ним уходили вглубь магазина, в бюро, где стояла не кровать, а продавленная древняя софа, обитая протертым кроличьим мехом.
Однажды я, как всегда, спешила с вокзала домой и уже издали увидела около своего дома толпу. Вероника с плачем кинулась мне навстречу и попыталась что-то объяснить, но я ничего не поняла. Только когда мы подошли к порогу, соседка рассказала мне, что произошло.
Ульрих катался на велосипеде по нашей улице, за ним бегала команда его приятелей, Вероника сидела на багажнике. Антон стоял в палисаднике с Региной на руках, малютка размахивала красным флажком. Слух у Антона был предельно обострен: он услышал, как приближается грузовик, и закричал детям, чтобы отбежали на тротуар. Ульриху минуло двенадцать, мальчик он был умненький, отъехал на другую сторону улицы, Вероника была у него на багажнике, а вот Регина вдруг вырвалась из Антоновых рук и кинулась к сестре. Антон бросился за ней, чтобы ее поймать. Шустрая девчонка была уже давно на другой стороне со старшими, а Антон попал под колеса грузовика. Дети мои были в шоке, Антона увезли в больницу.
Хуго вдруг громко всхрапывает и просыпается. Его голубые глаза испуганно таращатся на меня. У него начинается катаракта, и от этого они кажутся еще таинственней.
— Ой, прости, я, кажется, заснул! Мне Ида снилась. Ох, Господи, Хуго, Хуго, а ведь раньше ты был более чутким. Из вежливости я справляюсь, был ли сон, по крайней мере, приятным?
О чем он был, уже не перескажешь, отвечает Хуго, садится и протирает глаза.
— Ида в этом сне злилась на меня, за что — понятия не имею. Но она так же бушевала, когда застала в нашем доме чужую женщину, помнишь?
Я притворяюсь, что ничего такого в жизни не слыхала, а про себя замечаю, что у каждого из нас свои воспоминания.
Так вот, Хуго принимается рассказывать, как Ида пришла однажды из парикмахерской, а в гостиной сидит какая-то незнакомая молоденькая барышня. Ида возмущенно вопрошает, кто это такая и что ей надо, а та в ответ:
— Как, а разве ваш муж ничего вам не рассказал? Он с вами разводится и женится на мне. Мы уже давно любим друг друга, и я скоро сюда перееду.
Иде на секунду становится плохо, но дар речи у нее не пропадает, и она вышвыривает нахалку вон, провожая ее всякими разными словами. После чего следует истерический припадок.
Ошарашенного Хуго приветствовал звон разбитой напольной вазы его родителей (свое приданое Ида в минуты гнева всегда берегла). Кое-как он мою сестру успокоил и попросил эту якобы любовницу описать. И выяснилось, что он знать ее не знает, никогда такой женщины не видел. Долго Хуго так распинался, пока они ни догадались поискать Идину шкатулку для украшений — ничего, конечно, не нашли. Из стола Хуго исчез также конверт с деньгами.
— Просто наглая, хладнокровная воровка, — закончил Хуго свой анекдот.
— Который час? — спрашивает он, довольный этой историей.
Уже три, мы оба забыли про наши таблетки. Вообще-то мне не слишком нравится обязанность, возложенная на меня Хайдемари. По-моему, Хуго мог бы и сам заботиться о своем здоровье.
— Ох, Шарлотта, до чего ж ты строга, — отшучивается он, — все у тебя либо хорошо, либо плохо, либо да, либо нет, всегда или никогда. Нам бы следовало друг друга поддержать, один может одно, другой — другое, так потихоньку…
— Ну да, диалог слепого с глухим, — холодно парирую я, заранее представляя, кто из нас кто.
— Пусть Хайдемари подольше остается в Мюнхене, — продолжает Хуго, — я тогда переселюсь к тебе в мансарду. Я ведь тебе особых хлопот не доставлю. А на сэкономленные деньги будем пировать каждый день.
Завтра я жду Регину с Феликсом, я их пригласила специально и совершенно официально. Они-то уж быстренько для Хуго комнату приготовят. Только вот лестница наверх больно крута…
— Тебе не нравится в гостинице?
— Да нет, ничего. Но у тебя уютнее. А главное, мы тогда сможем все время быть вместе, разве тебе не этого хочется? Мне кажется, нам многое нужно еще успеть.
Успеем ли, вот вопрос.
Мы были друзьями, любили друг друга, писали друг другу письма. Не регулярно, конечно, были долгие паузы. А теперь вот жизнь клонится к закату.
— Я очень по тебе соскучился, — признается Хуго. Я лишь киваю в ответ, но ни в чем не признаюсь. Весна на дворе, может, все изменится, начнется снова?
Хуго мечтает:
— Вот соберусь в Дармштадт, пройдусь по старым местам, надо еще на кладбище зайти.
Стоит ли? (Что-то мне без привычного послеобеденного отдыха нехорошо, устала.) Мои родители и родители Хуго, наши братья и сестры и большинство друзей нашей юности лежат на лесном кладбище. Феликс мог бы нас, разумеется, туда отвезти. Может, и нам пора уже заказать себе камушек на могилку или еще поживем?
— Что бы ты написал на моем надгробии? — Я жду от Хуго каких-нибудь романтических строчек.
Но Хуго держит речь о Генриетте Каролине, служительнице муз. Когда в 1774 году ландграфиня умерла, Фридрих Великий начертал на ее могиле: «Femina sexu, ingenio vir. Плоть женщины, дух мужчины».
Ну разве это не обо мне?
Возвышенный, утонченный прусский король когда-то сделал таким образом даме комплимент, но теперь меня это выводит из себя.
Хуго ухмыляется, видя, как меня раздражает мужская заносчивость.
Есть мне не хочется, но в шесть мы идем в отель и заказываем ужин. Суп из спаржи, язык в красном вине, персики. Половина, конечно, остается, жалко до слез. Может, попросить, чтобы остатки мяса мне упаковали «для собачки»? Хуго наверняка сочтет это неэлегантным. Было время, он слыл во Франкфурте бонвиваном, кутилой, прожигателем жизни, только в ресторанах обедал.
Ну ладно, пора домой, уже восемь вечера. Я беру такси и возвращаюсь к себе. Утром мне надо быть в форме. Хайдемари будет звонить, Регина с Феликсом приедут. Иногда приятно немного помолчать, мне даже с Хульдой разговаривать не надо. А где она, собственно? Я откидываю покрывало и обнаруживаю Хульду, уютно лежащую в моей постели. Угу, Хуго шутит. Что это, просто ребячество? Или юмор, соответствующий его возрасту? Не буду об этом думать. В девять я ложусь в кровать. В голове проносятся мысли, и все о прошлом.