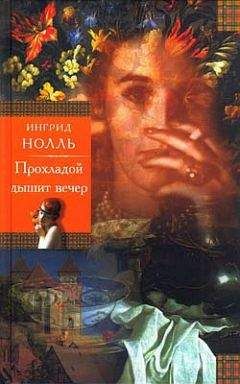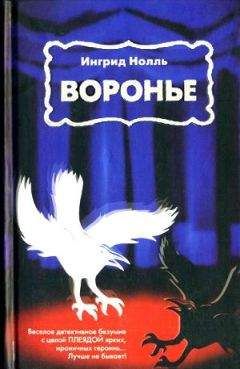Ингрид Нолль - Прохладой дышит вечер
Я теряю дар речи.
— Я случайно прочел тут письмо из одной клиники, что она получила, — рассказывает Хуго и наблюдает за моей реакцией. — Хайдемари хочет сделать подтяжку в Мюнхене. Ты представляешь, да ведь ей же седьмой десяток уже! На что ей подтяжка, как ты думаешь, а? Мне-то она наплела, что хочет подружку навестить.
Мы ухмыляемся.
— А может, и нам тоже подтянуть морщинки? — предлагаю я.
Хуго отрицательно трясет головой, и тут взгляд его падает на Хульду.
— Шарлотта, — оживляется он, — не познакомишь ли ты меня с этой обворожительной дамой?
Так я и думала, разумеется! Нельзя этих старых сердцеедов знакомить с молоденькими подружками. У него от возбуждения даже слуховой аппарат из уха вывалился.
— Это Хульда, — бормочу я, — тебе это имя что-нибудь говорит?
Хуго силится вспомнить, но безуспешно.
— Так Альберта куклу звали, — объясняю я, — мы в детстве играли с ней в дочки-матери.
Услышав имя моего брата, Хуго задумывается.
— Наверное, мне следует рассказать тебе кое-что, пока не забыл, — произносит он, — хотя, вообще-то, я отцу твоему честное слово дал…
Сколько лет я ждала этого момента! Тоска по Альберту уже утихла и превратилась в тихую грусть, но мне страсть как хочется узнать правду. Между прочим, у меня для Хуго тоже кое-что в запасе имеется.
Он знает, какая я любопытная, вот и ходит вокруг да около, с ума меня свести хочет. Да сколько ж можно, и так шестьдесят лет молчал! Я откупориваю бутылочку ликера и несу бокалы, давно, к сожалению, не мытые. Поэтому роковое признание откладывается еще на пару минут.
— Ты помнишь, твой отец, я и Эрнст Людвиг поднялись тогда на крышу и снесли тело Альберта вниз. Они оба потом пошли мыть руки, а я между тем снимал с твоего брата женскую одежду. Он был зашнурован в корсаж, а под корсажем — письмо. Я его не долго думая и прочитал. Тут пришел твой отец, взял у меня письмо и тоже прочел. А потом бросил его в огонь. Эрнсту Людвигу даже не показал, а меня заставил клятву дать, что я ни одной живой душе ни слова о письме не скажу. До сих пор я слово держал. — Я, наверное, должна Хуго за это поблагодарить. — А ведь письмо-то было для тебя, — заканчивает он.
О чем письмо дословно, он уже забыл, столько лет прошло.
— Что, неужели ни слова не помнишь? — я сгораю от нетерпения.
Мой отчаянный тон заставляет Хуго поднапрячь память.
— «Шарлотта, дорогая, не плачь обо мне…» — так, кажется, в конце было.
Услышав такое, я заливаюсь слезами, рыдаю, как уже давно не рыдала. Хуго гладит меня по спине своей трехпалой рукой, и я снова вспоминаю, как Антон вот так же проводил мне рукой по спине, будто делал массаж. Я вспыхиваю от возмущения и отшатываюсь от Хуго.
— Будешь так нервничать, вообще ничего больше не расскажу, — грозит Хуго, — я хотел сказать, что слов точно не помню наизусть, но суть-то самую не забыл еще.
Ну вот, так всегда: старики такие церемонные, так долго раскачиваются, нет чтобы сразу к делу перейти. Так я и думала. Правильно я сделала, что салфетки бумажные положила, в них сморкаться удобнее.
В коридоре звонит телефон. Это Хайдемари, с заправки. Принял ли папочка вечернюю порцию таблеток? Я вопросительно смотрю на Хуго. Он таблеток не хочет и показывает на свои уши.
— Да, Хайдемари, все принял, не беспокойся, — сочиняю я.
Но во мне говорит чувство долга, и я заставляю Хуго выпить лекарство. Наконец он снова возвращается к прерванному разговору.
В письме Альберт со всеми прощался, это и так понятно. Брат мой был, очевидно, слишком несчастен, чтобы называть причину своего самоубийства. Но в письме содержался намек: мол, теперь папочка будет им доволен. Хуго еще тогда, у смертного одра Альберта, потребовал у отца объяснений.
В то воскресенье вся семья, кроме отца и Альберта, собралась на кухне. Папе вдруг страшно захотелось поговорить со своим младшеньким, со своим трудным сыном. Он пошел его искать, звал, звал, а тот не откликался. Кто бы мог подумать, что отец станет обыскивать весь дом и доберется-таки до крыши. Там он и увидел Альберта: тот стоял перед зеркалом в дамском одеянии и кокетливо поддерживал юбку. Сын так был поглощен этим безумным занятием, что шагов отца не услышал. И в оправдание себе ничего в тот момент сказать не смог. Из его путаного, бессвязного бреда папочка наш сделал вывод, что сыном овладел сатана.
Альберт, вероятно, давал отцу понять, что это какое-то наваждение, одержимость, но безнадежно: папуля оказался совершенно неспособен понять сына, так что оба были в отчаянии.
— Ты мне больше не сын, в моем доме тебе не место, — были последние слова отца.
К несчастью, Альберт знал, где старший брат хранит оружие.
Для меня самым страшным было то, что я во второй раз возненавидела отца. Смерть Альберта осталась на его совести. Он и выстрел должен был слышать, и наверняка чувствовал, что происходит на крыше, и все равно ничего не предпринял, а тело Альберта нашли другие. Слезы катились у меня по щекам, и я не могла их унять. Надо же было дожить до моих лет и на старости лет так в людях разочароваться.
— Нет на свете ни одного по-настоящему доброго существа, — всхлипываю я.
Я об этом долго размышляла. Все мои друзья и знакомые, родители, братья и сестры, дети и внуки при ближайшем рассмотрении оказываются людьми не слишком симпатичными. (Я, впрочем, тоже.) По-иному и быть не может. Хуго цитирует Оскара Уайльда: «Ни один человек не плох, ни один, — говорю вам, — я подтверждаю».
Мы, конечно, по-другому представляли себе наше новое свидание. Слезы, пиво, ликер и кофе льются нескончаемым потоком. Наконец я вынимаю из упаковки семгу и приношу две вилки. Мой некогда образцовый столик похож между тем на поле боя: таблетки, стаканы, скомканные, пропитанные слезами салфетки, замасленные тарелки, а посреди всего этого — нежно-розовая рыба, которую мы жадно, с непонятным вожделением, поедаем без хлеба.
— Если так и дальше пойдет, завтра нам будет плохо. Не надо нам этого. Проводи меня до гостиницы, я тебе оплачу такси обратно, — говорит Хуго.
Хорошая идея. Мы выходим на свежий воздух, и жизнь снова идет своим чередом, и без нас.
Ночью мне действительно становится плохо. Торт, ликер, кофе и семга мучительно просятся обратно, и мне приходится от них освободиться. Вот уж поистине возраст от глупости не лечит.
На следующее утро я даже рада, что Хуго завтракает в отеле: у меня есть время спокойно вымыть посуду и прибрать. Вести хозяйство Хуго никогда особо не любил.
В одиннадцать он снова у меня, мы сидим вместе.
— Расскажи мне о своих детях, — просит Хуго, хотя знает, что я исполню его просьбу не очень охотно. — Как там моя родная Вероника? — И дребезжащим голосом поет: — Ты весь мир зачаровала, Вероника! Цветут маки, вьется к солнцу ежевика!
Когда Хуго жил у меня, он научил мою дочку этой песенке, и каждый раз меня это как-то задевало. О щекотливом нашем положении Хуго порой забывал.
Альбом с фотографиями открыт. Вероника рано вышла замуж и уже давно живет с мужем в Калифорнии. Трое ее отпрысков не говорят ни слова по-немецки. Они подумывали было приехать учиться в Гейдельберг, но ничего из этого не вышло. Хуго с удивлением разглядывает трех юных спортивного вида американцев, которые мне кажутся почти чужими. Когда я была помоложе, то пару раз летала в Лос-Анджелес. Мой зять инженер-конструктор, работает в гражданской авиации, зовут его Уолтер М. Тайлер. У них три сына: Майк, Джон и Бенджамин. Я их как-то даже побаиваюсь, у них маленькие коротко остриженные головки, посаженные на широченные плечищи. Но вот у Хуго вообще нет внуков.
— А мальчишку твоего как зовут? — спрашивает Хуго. О Регине он и не помнит.
— Да будто ты не знаешь? Сына моего зовут Ульрих и всю жизнь так звали. Единственный в семье он сделал приличную карьеру, стал профессором-китаистом.
— Ах да, — бормочет Хуго, — он вечно от всего китайского с ума сходил. А у него-то дети есть?
Вот, достаю второй альбом и с некоторой даже гордостью демонстрирую ему карточки Фридриха и Корнелии.
— Слушай, как она на тебя похожа, черт побери! — замечает Хуго, любуясь Корой. — Она замужем?
— Вдова уже, представь себе, — отвечаю, — но не сильно горюет. Муж у нее был денежный мешок, в отцы ей годился, по таким никто особенно не плачет. Кора у нас богачка.
— А, да, точно, ты мне как-то писала, — вспоминает Хуго и продолжает пожирать глазами мою рыжеволосую внучку. — Вот бы с такой познакомиться!
Я не рассказываю ему, как мне с Корой трудно.
— Она художница, — сообщаю я. Конечно, ясное дело, Кора интересует старого донжуана в сто раз больше, чем три мускулистых бейсболиста. — Живет в Италии, во Флоренции, — добавляю я, — я уже давно ее, к сожалению, не видела.