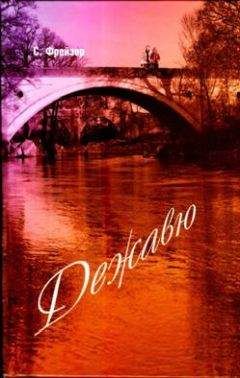Чарльз Фрейзер - Холодная гора
Ада также осторожно поглядывала на молодых людей, сыновей высокочтимых прихожан. Они сидели в дальнем углу гостиной и громко разговаривали. Большинство из них презрительно отказались от шампанского и пили кукурузную водку из карманных фляжек, правда, старались прикладываться к ним незаметно. Хоб Марс, который в течение короткого ухаживания тщетно искал расположения Ады, объявил громко, как будто обращался ко всем, кто был в комнате, что он в течение недели праздновал Рождество каждый вечер и, уходя с этих вечеринок, таких долгих, что они заканчивались перед рассветом, освещал путь домой огнем из пистолета. Он взял фляжку у другого юноши и, отпив глоток, вытер тыльной стороной ладони рот, потом посмотрел на фляжку и утерся снова. «Хорошо пробирает», — сказал он громко и вернул фляжку владельцу.
Женщины разного возраста заняли другой угол гостиной. Салли Суонджер сидела вместе с ними, она надела по случаю праздника новые туфли и в ожидании, что о них скажут, выставила ноги перед собой, как кукла. Другая женщина рассказывала длинную историю о неудачном замужестве дочери. По настоянию мужа дочь вынуждена была делить дом со сворой охотничьих собак, которые все время бродили по кухне, кроме тех случаев, когда их брали для охоты на негров. Женщина сказала, что она терпеть не может ходить к ней в гости, потому что в соусе всегда собачья шерсть. Ее дочь в течение нескольких лет рожала одного ребенка за другим и, хотя раньше очень хотела выйти замуж, теперь видит брак в мрачном свете. Теперь-то она понимает, что брак сводится лишь к тому, чтобы подтирать зады детям. Одна из женщин засмеялась, но Ада почувствовала, как у нее на мгновение перехватило дыхание.
Позже гости перемешались, несколько человек, окружив пианино, запели, а потом молодежь принялась танцевать. Ада в свою очередь подошла к пианино, но ее мысли были далеки от музыки. Она сыграла несколько вальсов и отошла. С удивлением она наблюдала, как Эско поднялся со стула и под аккомпанемент одного лишь собственного свиста в одиночку отбил чечетку; в течение танца его глаза были устремлены куда-то вдаль и голова болталась, как подвешенная на веревке.
Вечер продолжался, и Ада вдруг спохватилась, что вопреки благоразумию выпила больше одного бокала шампанского. Лицо у нее покрылось холодной испариной, и шея была мокрой под рюшами высокого воротника зеленого бархатного платья. Ей показалось, что нос у нее раздулся, и она, чтобы проверить это, сжала его двумя пальцами, затем вышла к зеркалу в холле и, посмотрев в него, убедилась, что выглядит нормально.
Салли Суонджер, по-видимому тоже под воздействием шампанского, потянула в этот момент Аду в коридор и шепнула: «Этот мальчик, Инман, только что пришел. Я должна держать рот на замке, но вам бы следовало выйти за него замуж. У вас могут быть такие прелестные кареглазые детки».
Ада была настолько поражена услышанным, что, залившись краской смущения, убежала на кухню, чтобы прийти в себя.
Но там она обнаружила Инмана, сидевшего в одиночестве у печки, что повергло ее в еще большее смятение. Он приехал поздно, попав под затяжной зимний дождь, и теперь грелся и сушился перед тем, как присоединиться к гостям. На нем был черный костюм, он сидел скрестив ноги, и мокрая шляпа висела на кончике его ботинка у горячей печки. Он держал ладони над огнем, и вид у него был такой, будто он кого-то отталкивал.
— Ах, надо же, вот вы где, — сказала Ада. — Дамам доставило удовольствие узнать, что вы здесь.
— Старым дамам? — спросил Инман.
— Нет, всем. Миссис Суонджер особенно отметила ваше прибытие.
При упоминании этого имени у нее вдруг возник в памяти живой и неожиданный образ, вызванный намеком миссис Суонджер, и Ада почувствовала смятение. Она снова покраснела и быстро добавила:
— И другим, несомненно.
— Вы чувствуете себя не очень хорошо, не так ли? — спросил Инман, несколько смущенный ее поведением.
— Нет, нет. Просто здесь очень душно.
— У вас лицо пылает.
Ада приложила ладони к щекам, затем провела рукой по лбу, не зная, что сказать. Она снова пробежала пальцами по лицу и проверила, не слишком ли у нее большой нос. Затем прошла к двери и открыла ее, чтобы глотнуть холодного воздуха. Ночь пахла мокрой опавшей листвой и была так темна, что Ада не видела ничего, кроме капель дождя, падающих с карниза над порогом. Из гостиной послышалась простенькая мелодия «Доброго короля Вацлава»[14], и Ада узнала по манере играть, что это Монро сел за пианино. Затем из темноты, откуда-то издалека, с гор, донесся тонкий волчий вой.
— Вой одиночества, — сказал Инман.
Ада оставила дверь открытой, чтобы услышать ответный вой, но больше ничего не было слышно.
— Бедняжка, — сказала она.
Закрыв дверь, Ада повернулась к Инману, но от тепла комнаты, от шампанского и от взгляда на Инмана, лицо которого расплывалось даже больше, чем все остальное, что она видела перед собой, она вдруг почувствовала дурноту и головокружение. Девушка сделала несколько неверных шагов, и, когда Инман приподнялся и протянул руку, чтобы поддержать ее, она оперлась на нее. И затем каким-то образом — Ада и сама позже не могла восстановить это в памяти — она оказалась у него на коленях.
Он положил руки ей на плечи, и она прислонила голову к его груди. Ада вспомнила, как подумала тогда, что ей хотелось бы сидеть так всегда, прислонившись головой к его плечу, но она не ожидала, что скажет это вслух. Единственное, что она помнила, что он, кажется, был так же доволен, как и она, и не старался прижать ее крепче — просто касался ее плеч руками. Она вспомнила запах его мокрого шерстяного сюртука и застарелый запах лошадей и хлеба.
Она оставалась на его коленях полминуты, не больше. Затем встала и ушла. Ей вспомнилось, как она повернулась у двери, держась рукой за ручку, и посмотрела на него, а он сидел с растерянной улыбкой на лице, и его шляпа валялась на полу.
Ада вернулась к пианино, где сменила Монро, но играла совсем недолго. Инман пришел в гостиную и стоял, прислонившись плечом к косяку. Он пил из бокала и наблюдал за ней некоторое время, затем отошел поговорить с Эско, который все еще сидел у камина. В течение остальной части вечера ни Ада, ни Инман не упоминали о том, что произошло в кухне. Они только коротко и неловко поговорили, и Инман ушел рано.
Намного позже, уже после полуночи, когда вечер закончился, Ада смотрела из окна гостиной, как молодые люди шли по дороге, паля из пистолетов в небо, и всполохи от выстрелов на краткий миг высвечивали их силуэты.
Ада сидела на крыльце, пока телега с пианино не скрылась за поворотом. Затем зажгла фонарь и пошла в подвал, подумав о том, что Монро мог хранить там ящик, а может и два, шампанского и что неплохо было бы сейчас открыть в гостиной наверху бутылочку. Вина она не нашла, но вместо него обнаружила настоящее сокровище, то, что намного больше подходило для обмена. Это был стофунтовый мешок зеленых кофейных зерен, который Монро припас когда-то и который теперь стоял в углу, прислоненный к стене.
Она позвала Руби, и они немедленно наполнили жаровню и поджарили полфунта зерен над огнем, смололи и затем заварили первый настоящий кофе, какой ни та ни другая не пили уже больше года. Они поглощали его чашку за чашкой и не спали большую часть ночи, разговаривая без умолку о своих планах на будущее, вспоминая прошлое, и однажды Ада даже пересказала целиком захватывающий сюжет «Крошки Доррит»[15], одного из тех романов, которые она читала этим летом. В течение следующих нескольких дней они обменивали кофе у соседей, отсыпая им кружкой по полфунта; для себя они оставили только десять фунтов. Когда мешок опустел, они получили взамен кофе половину свиной туши, пять бушелей ирландского и четыре сладкого картофеля, жестянку пекарского порошка, заменяющего дрожжи, восемь цыплят, несколько корзин с кабачками, тыквой, бобами и окрой, старую прялку и ткацкий станок, нуждающийся лишь в небольшой починке, шесть бушелей кукурузных початков, а еще дранки, чтобы перекрыть крышу коптильни. Самым ценным приобретением был пятифунтовый мешок соли, которая теперь стала редкостью и была так дорога, что люди скоблили полы своих коптилен, затем варили и процеживали эту грязь, потом кипятили и процеживали ее снова. И так несколько раз, пока вода не становилась чистой, так что под конец они возвращали себе соль, упавшую с окороков, которые они коптили в прошлые годы.
В делах обмена и во всех других Руби проявляла чудеса энергии, и вскоре она навязала Аде свой распорядок дня. Перед восходом солнца Руби приходила из хижины, кормила лошадь, доила корову, стучала горшками и кастрюлями в кухне, разжигала огонь в печке; желтая овсянка булькала в горшке, яйца и бекон скворчали на черной сковородке. Ада не привыкла вставать в утренних сумерках — в течение лета она редко поднималась раньше десяти, — но у нее не было другого выбора. Если бы Ада оставалась в постели, Руби вытащила бы ее оттуда. У Руби было свое представление о том, что входит в ее обязанности: в них не входило прислуживание за столом или выполнение чьих бы то ни было приказаний. Несколько раз, когда Ада забывалась и вела себя так, будто Руби была служанкой, та просто смотрела на Аду в упор, затем шла и делала то, что считала нужным. И этот взгляд говорил, что Руби может уйти в любой момент, как утренний туман в солнечный день.