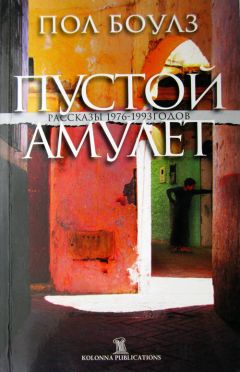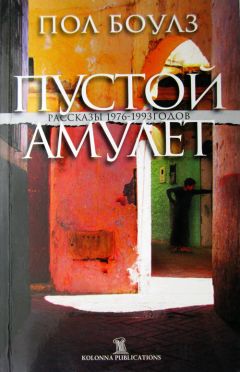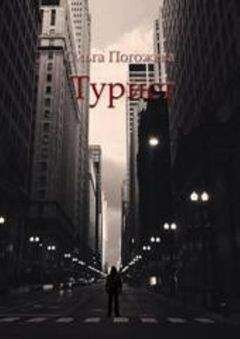Корреа Эстрада - Дом с золотыми ставнями
– Понимаете ли, в чем дело…
Старуха вернулась к прерванной работе, размешивая в котле кипящее масло и разливая его черпаком в глиняные низенькие горшочки. – Понимаете ли, в чем беда: те, кто попал в неволю взрослым человеком, оттуда, с черной земли – тот так и не может до конца дней уразуметь, что к чему в этой жизни. Привезли какого-нибудь конгу, дали в руки заступ – копай, и он копает, не зная, зачем, и не желая знать – все знают за него белые, она ему как могучие боги, они решают все, казнят и милуют – а как, по каким законам? Где ему понять? Для него только и есть что закон подчинения.
А если родился в неволе или попал ребенком – другая беда. Конечно, креол лучше знает белые порядки и белые повадки. Он научится тому, чего дикому не постичь вовек – например, грамоте. Но босаль помнит, что был свободным, а у раба-креола рабство в крови, как самая жгучая отрава, оно с рождения, оно привычно, и потому не замечается. Знаете, что среди беглых креолов почти не бывает? Так-то, милые, иной раз и ярмо бросить жаль. Когда страшно – это полбеды, когда жаль – вот это страшно.
– А что, по-твоему, – спросил Мухаммед, – всем задрать штаны и бежать куда попало?
Обдулия медлила с ответом.
– Нет, отчего же! Можно, конечно, и бежать. Если по-умному – век не найдут. Да только, первое, бежать по-умному не у всех ума хватает. А второе, не все могут жить в бегах, шатаясь в одиночку, а в лучшем случае – горсточкой. Привыкает-то наш брат жить пчелиным роем – все вместе, и чтоб чья-то голова за них думала, и чтоб какая ни есть похлебка стояла б в миске каждый день. А в бегах – поверьте мне, уж я видела беглых, – и на Гаити, и здесь – не сладко! Это точно, что не вздуют симаррона, по крайней мере, пока не поймают. Но – когда сыт, а когда брюхо к спине прилипло, и спи вполглаза, и пугайся всякого шороха. А уж если попался – ясно, не жди спуску. Понятно, что от сносной жизни не сбежит никто.
Но даже от собачьей сто раз подумаешь, прежде чем сбежать.
Обдулия во время своей речи не отрывалась от работы, стоя к нам спиной. Я разглядывала положенные в сторонке травы, а Мухаммед, забыв о дымящейся в пальцах сигаре, не сводил с меня таких глаз, что потихоньку заныл затылок.
– Так вот, с чего, бишь, мы начали? Что надо уметь беречь тайное и знать, кому можно доверить, а кому нельзя. Лучше человек с кандалами на руках, чем с кандалами на душе. От железной цепи избавиться проще, чем от невидимой. Рабство портит человека и выедает душу. Так-то, дети мои…
Раздался тягучий, медленный звон большого колокола, отбивавшего конец рабочего дня. Солнце касалось краем облесенных макушек холмов на западе. Араб поднялся, заторопившись уходить, но напоследок так и обжег глазами, – я вздрогнула, поймав во взгляде знакомые пляшущие искры.
– Что ты о нем скажешь? – спросила Обдулия по уходе парня.
– Святой и влюбленный.
– Святой и слегка блажной, – добавила старуха. – Незлобив свыше всякой меры.
Его очень уж обижали, пока я не дала ему свою повязку. Теперь не трогают, потому что боятся меня. Сам он мухи не обидит. В этом лысом много силы, но унганом ему не стать, – останется святым и блаженным. А ты говоришь, влюбленный?
– Да, Ма.
Обдулия, опершись на рукоять большого черпака, склонив набок голову, задумалась, разглядывая меня словно впервые.
– Не многовато ли тебе будет, а?
– Я этого не хотела. Его не нагадала ли ты сама мне в числе прочих? Если ему такая судьба – что я могу? Кажется, он просто рад тому, что я хотя бы есть на белом свете. Гром – тот не такой. Тот будет добиваться своего и добьется.
В тот же вечер в угловой комнате в конюшне с жаркой любовью пополам продолжался дневной разговор.
– Старуха права, – говорил Факундо, – от слова до слова права старая чертовка!
Я видел в городах свободных негров и цветных, их немало, особенно в Гаване. И все боятся белых, хотя вроде бы и свободны. Не умом боятся – битой задницей.
– Как они получают свободу?
– Из рук хозяина по отпускному свидетельству. Многие – по завещанию после смерти хозяина. Очень немногие откупаются сами, обычно через подставных хозяев.
В Гаване, я знаю, промышляет этим один священник. Если раб скопил денег на свой выкуп – он отдает их этому попу, а тот его выкупает и пишет вольную. За услуги дорого не берет и не было случая, чтобы обманул кого-то. Слышал, есть такие белые, что делают это все и вовсе бесплатно.
– Много тебе не хватает для выкупа?
– Начать и кончить, – усмехнулся невесело Гром. – Я, на свою беду, незаменимый в хозяйстве человек, меня за пустяк не отдадут. Вот у девчонки, тем более красивой, есть еще выход: свести с ума какого-нибудь богача. Не обязательно из белых, в Гаване попадаются и негры, и цветные при деньгах. Есть даже такие, что имеют свои плантации и рабов. Странно сказать – черный в рабстве у черного…
– Я это видела сто раз у нас дома, где не бывало белых господ.
– Вот как? Я подумать бы такого не мог.
– Да, вот так, – я рассказала ему все, что помнила из детства. – В нашем доме в Ибадане тоже были рабы.
Факундо долго молчал, покусывая трубку.
– Все-таки это свинство и грех – делать рабом своего же брата. У белых этого нет, – я не слышал что-то ни об одном рабе из белых.
– Опять ты не прав, – возразила я, – и у белых это было, а кое-где есть до сих пор…
Миссис Джексон не могла бы найти более внимательного слушателя для своих уроков по истории Европы. Забыты любовь и сон, раз речь зашла о рабстве и свободе. Гром слушал, не проронив ни звука. Лишь под конец глухо выругался.
– Вот проклятье! Я не думал, что они и мы так похожи.
– Похожи? Может быть, только с опозданием на целые века. Может, бог создал сначала белых, а потом уж черных? Только что-то об этом ничего не говорится в их библии, – а мне случалось заглядывать в нее.
Факундо такой премудрости хлебнуть не доводилось. Разговор свернул в иное русло, но в том же направлении.
– Гром, ты не думал о том, чтобы сбежать?
– Почему же не думал?
– И что?
– Я мог бы сбежать в любой момент. Я знаю полтора десятка беглых, которые бродят по округе. Я знаю все потайные места поблизости, а если захочу, меня проводят в любое укромное убежище хоть в сотне миль отсюда, куда не добираются ни собаки, ни ловцы.
– Почему же ты не делаешь этого?
– Хм… Хороший вопрос. По-моему, Обдулия на него ответила. В бегах не жизнь, и вовсе не от голода и страха. Я знаю, что смог бы прожить в любой глуши – в лесу или на болоте. Мало ли я кочевал с табуном, а налегке еще мороки меньше. Иной раз побыть в сьерре несколько дней одному – большое удовольствие. Но как только я представляю, что это на всю мою жизнь – берет тоска. Я ведь не лесной дикарь, я привык жить на людях, делать с ними дела, ходить открыто – вот он я! И у меня есть место среди прочих людей. Неважное место, сам бы я не отказался от другого, поудобнее, но – среди людей. Будь я свободным, я бы зарабатывал достаточно.
Даже сейчас мне перепадает кое-что, а если б все мое время было моим… – он вздохнул. – Нет, побег – это на крайний случай. Пока ни тебя, ни меня не трогают. Да и что б ты делала в болоте? Ты умна, учена, тебе надо быть хозяйкой большого дома…
Знаешь, какой тебе нужен дом? Твой собственный, просторный и чистый. Чтобы пол был вымощен разноцветным кафелем, чтоб двери передней выходили на бойкую улицу, чтоб у входа стояли качалки, и чтоб на каждой лежал веер. И чтоб в патио бил фонтанчик с питьевой водой, чтоб на столе была скатерть, чтобы вся посуда сверкала белизной. Ставни в этом доме должны быть из медового кедра, жалюзи из струганых дощечек. А в тех местах, где дощечки неплотно прилегают друг к другу, остаются щелки, и по утрам в них забирается солнце и отсвечивает на желтом дереве так, что кажется, будто окна в доме из чистого золота. Ты будешь ходить в таком доме гордая и красивая, как королева. Не знаю, правда, будет ли мне место в этом доме.
– Ну нет! – отвечала я. – Зачем мне дом с золотыми ставнями, если в нем не будет тебя?
– Мало ли что бывает в жизни? Обдулия напророчила, что я буду у тебя не один, так может, найдется кто-то, кто выстроит тебе этот самый дом?
– Обдулия не говорила мне, что я тебя оставлю. В жизни всякого бывает, это правда. Но в дом с золотыми ставнями мы войдем только вместе, не будь я дочерью кузнеца!
– Ты так говоришь, моя унгана, что я тебе верю, – сказал он, обнимая меня. – Буду радоваться и считать, что все хорошо, пока мы вместе. А потом вернется хозяин и отправит меня в холмы, в лагерь на пастбище. Я раньше проводил там два месяца из трех. Не люблю подолгу жить в усадьбе, и дел у меня там больше, чем здесь, а задержался в этот раз из-за тебя, и то потому лишь, что хозяев нет. А то сеньору взбредет в голову отправить меня с каким-нибудь поручением на другой конец острова… Любил я раньше такие поездки: в них можно посмотреть на места и на людей, и всегда перепадает случай кое-что заработать. Но уж очень не хочется оставлять тебя одну.