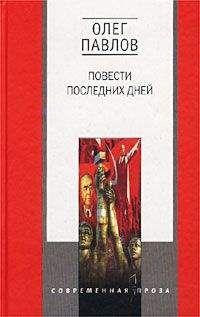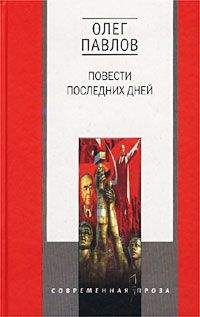Олег Павлов - Дело Матюшина
Офицерик возвратил их тишком в лазарет. Когда засели в палате, Ребров вскинулся, вопил:
– Какой Ташкент, с кем ты будешь?! Ты, сука, ты ж должен был что ему сказать, тебе ж для всех нас надо было говорить, что мы все хотим, ты ж слышал, у них же людей нету, чтоб он нас всех взял!
Матюшин привалился к стенке и глядел молчаливо, как боялся броситься в драку и бесился хилый Ребров. Он замолк сам собой, выдохся. А который на трубе умел, третий из них, вечерком сорвался, рискнул: прознал от здешних, что водится в полку этом музычка, где они сидят с трубами, в клубе, и сбежал в клуб. И тоже не вернулся больше, улетучился.
А за ними приехала похожая на хлебовозку, с окованным кузовом машина, какой никогда в жизни Матюшин не видал. Он понимал, что увозят их навсегда, и стерпеть не мог Реброва, его опостылевшей рожи. Сбылось его хотение, вечное, подлое, – быть вместе. Ребров же сам был убит, что увозят их вместе, навсегда. У машины покуривали усталые солдат и начальник.
– Карпович, ебана мат! – полыбился солдат, будто б узнал знакомца, не отлепляя въедливых глазок от Матюшина.
– Ткнись ты, черт нерусский, чего ребят мне сбиваешь, вылупился! – остегнул добрый начальник. – Ну, залазьте в автомобиль, поехали. Зэков сгрузили, прокатимся с ветерком. Курево имеется, ну, лады, курите, только окурки в фортку. Водила у нас строгий, в салоне не сорить. А дома уж поговорим по душам. У нас хорошо, ребятки, как на природе.
Они полезли в зябкий железный предбанник этой каталажки на колесах. Весь кузов отнимали две разделенные перемычкой клетки, запертые на замки, в которых таилось что-то гулкое, живое. Тьма их парила болью, голодом. Шибало не вонью, а духом прелым, землистым, будто из теплички. Солдат задраил за ними дверку, ушел. Слышно было, как гремят ворота, – машина выехала, стало кузов шатать, он заскрежетал, клетки стали стеклянисто дребезжать. Ребров молчал затравленно в своем углу. Матюшин подлез к фортке, вдохнул свежего ветерка. Их кружили по городу, но скоро заехали в хмурую, промозглую степь, потащили волоком.
Ребров измучился дорогой молчать, проговорился:
– А ты ж Молдавана, получается, застучал в Ташкенте. Но я не скажу.
– Сдачу у меня в поезде воровал… – вспомнил, глядя в его глаза, Матюшин. – Тебе на все деньги сказал купить, я ж угощал, а ты на сдачу позарился, сбегал, подешевле взял вина…
Они б загрызли друг дружку, но лишились давно сил. Дотерпели, покуда мелькнул в оконце обрубок станции, дыхнуло копотью железной дороги, проплыла щербатая доска то ли домов, то ли сараюх – было не проглядеть в сырой дымной вате воздуха. Спустя минуту заглохли в тишине. Солдат распахнул дверку, сам стоял по боку, как привык, свешивая с руки автомат. Вылезли у опрятной казармы, похожей на жилой дом. Кругом не было огорожено – дырчатый заборчик стелился, что и степь, позарос травой. А прямо глядеть – рукой подать, метров через триста, будто б латая дыру в небе, возвышалась и ширилась грязно-белая глухая стена. На верхушках ее голых торчали скворечники – и виднелись птенцами часовые. Часовые, верно, уследили с высоты, как въехала во двор машина и высадили двух неизвестных людей, – они махали руками, покрикивали надрывно. Слышно было дальний гудок станции, дальше той великой стены горбатились в степи крыши поселка. Из домовитой казармы выскочила навстречу и обступила прибывших теплая семейка солдат. Все на одно лицо, они глазели на Матюшина и разноцветно смеялись, загораясь огоньками глаз:
– Карпович новый приехал!.. Братан Карповича! Приехал у Карповича братан!
III
Вечерили в бытовке – глухой комнате без окон для глажения и пришивания. Там услышал Матюшин впервые слово «кусок», когда вошедший солдат спросил, где кусок. Оказалось, что это слово обозначает старшину. Старшиной был добрый начальник, пожилой седовласый человек, увозивший их в каталажке из Караганды. Он сидел в другом помещении, настежь распахнутой канцелярии, и уснул истуканом у себя за столом. Пугало малолюдье. Все, кто был, коротали время до отбоя в бытовке. Говорили только из прошлого, каждый с охотой вспоминал. Запомнилась фамилия одного из этих солдат, Дыбенко, и рассказ, то ли его, то ли другого, про изнасилование в каком-то городе девушки. Дыбенко этот восседал в середине и был душой семейки, правил в ней от души. Он сидел полуголый за шитьем, дородный и громоздкий. Штаны ж ему гладил юркий рыжий солдат, с которым разговаривал он как с ровней, показывая остальным, будто не унижает его, а уваживает. Кроме непонятных возгласов по приезде, прибывших в роту обмалчивали. Старался подлезть в ихние разговорцы Ребров, но его молчком слушали да прятали глаза, будто б не верили. А было нечем подшиваться, бриться. Сидели без ниток да иголки, хоть умирай с щетиной, неподшитым воротом или проси. Солдаты утекали из бытовки, и заговорил Дыбенко. Поворотился с ленцой к Матюшину, кивнул на открытое плечо, где углядел наколку, спросил:
– Ты что ж, смертник?
– Да не пошел бы ты!.. – выругался бездумно Матюшин, которому опротивело в этой пустоте и что его разглядывают.
– Ну, прости, – неуклюже проговорил Дыбенко, будто оказался виноват. – У нас узоров таких не носят, ты пойми, какое хоть имя у тебя человеческое?
Матюшин опомнился, назвался.
– Раз ты Василий, значит, поговорили, я тоже Василий. Но хренков больше не ложи. Тута зона, за язык у нас отвечают. Сказал – считай, сделал, жизни лишил или того… лишился.
Он то хмурился, то улыбался. Дал сам Матюшину иголку и, не брезгуя, бритвенный станок, но сказал обычно, больше не зная за собой вины:
– Угощайся даром, смертник, а спортишь мне вещь – должен будешь две или умирай. Взаймы взял, знай, какая у меня расплата.
Иголку эту чужую со станком выпрашивал у него в очередь Ребров, но был ему ответ такой, что пустился он бродить по казарме, выпрашивать у солдат. Спальня была и не казармой, а залой. Коек пустовало видимо-невидимо. Спали, на какой хотели и где хотели, но Матюшин уже узнал, что пустуют койки тех, кто отбывает сутки в карауле на зоне. Завтра на зону уйдут эти, только и переглянувшись с другими. Занял он закут и койку соседскую с Дыбенкой – тот позвал его и в темноте вдоволь расспрашивал да рассказывал весело про себя. Оказался он годовалым сержантом из полка, откуда его разжаловали и сослали за то, что, будучи пьяным, где-то на чердаке он кинул в портрет Брежнева макароны, которыми закусывали… Когда уморился Дыбенко, стал засыпать, Матюшин вспомнил и чуть успел спросить про те выкрики, отчего кричали ему в лицо про какого-то Карповича.
– Ааа… есть тут одно чудило… Держись дальше, а то замарает…
Пришло утро. За окнами темнила дождливая, пасмурная погода. Но вот появился офицер. Он мало чем отличался по виду от всякого офицера, какие они бывают. Проходил мимо солдат, близко себя к ним не подпуская, брезговал. Однако ж, молодой, смуглый, гибкий, он явился красавчиком в промозглой казарме, как другой человек. Светило в нем породистое, живое. Офицер молчаливо за всеми следил. Зала, будто бродильная бочка, полнилась уж движением, пробуждением. Шагали, бухие от дремоты, куда и все. Делали одно и то же. Во дворе, куда вытолклись полуголые, впился в кожу холод, и Матюшин взбодрился, как от боли. Грязно-белая великая стена так и стояла застыло в степи, каменея от сырости. На одной вышке чернел, закутанный в плащ-палатку, часовой, а дальние вышки пропадали в туманах, похожих на заблудшие с неба облака. Они побежали вразвалочку прочь со двора. Матюшин постиг, что должна быть зарядка. От роты пролегала одна дорога, что уводила к зоне. Стало на бегу горячей, а стена на глазах росла. Зону поворотило боком, но была там не пустота, как за забором, а точно такая же, тянущаяся уже вдаль вдоль дороги глухая стена, по которой вилась диким виноградом колючка. Против той стены, пятясь от дороги в степь, рассыпался домишками спящий поселок. Дальше от казармы бежали вразвалочку, а когда вынесло в пустую степь, то вовсе сбились на шаг. Встали. Закурили вместо зарядки. Здесь, в степи, сильным был ветер. Душил да обшкуривал. А что чуднее: раздувал докрасна угольки папирос. Матюшин глазел на стену, как обманутый, оторвать не мог от нее глаз – казалось, что был это громадный дом, только без оконец да крыши, под голым небом. Весь простор степи был ничтожеством, как и поросший бурьяном пустырь. Одна непонятная куча возлежала где-то вдали. Матюшин ткнулся в нее взглядом, и вчерашний солдат, Дыбенко, очутившийся рядом с ним, процедил сквозь зубы, греясь зябко от фитилька палящего папиросы:
– Сахарная, сучка…
– Какая сахарная?
– Да сопка сахарная, вскорячишься на нее, а там тебе кусок сахара лежит. Ой, умрешь ползти туда, легче на зону отходить, чем на эту сопку.
Курево в грязь, побрели в обратную. У поселка, на окраине, чего-то боясь, сбились в какой-никакой строй да побежали. Всполохи тумана развеяло. Стена, как живая, подползла ближе к обочине дороги. Конурки вышек торчали одиноко из воздуха, и каждый часовой свешивался навстречу, брехал. Слышно было и вполголоса.