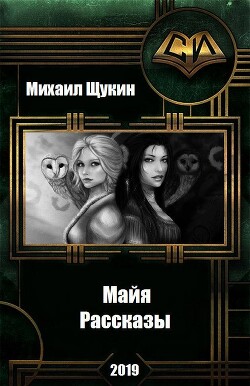Санитарная рубка - Щукин Михаил Николаевич
Сейчас же, в свете ярком и теплом, увидел: лежит мужик ничком и только края бороды у него белые, а все остальное — темно-красное.
И еще чье-то лицо впереди замаячило. Харитон Игнатьевич застопорил ход, не желая дальше двигаться, но неведомая сила толкнула в спину, жестко и властно — иди, вспоминай и глаз не отворачивай!
Вспомнил…
Сидит он в своей лавочке махонькой, которую на скудные деньги купил, когда с шайкой развязался, рассудив, что у лихих людей судьба короткая, сидит и горюет: торговля плохо идет, барыша почти не приносит, а чего дальше делать, он ума не приложит.
Все-таки приложил. Придумал.
Выскреб все деньги, какие в наличности имелись, до единой копейки, и отправился на лошадиную ярмарку, купил там коня-красавца каурой масти и прямиком с ярмарки пожаловал к самому богатому в Сибирске купцу Сидору Махнанову, у которого денег, лавок и складов невпроворот имелось. А еще имелась страсть к лошадям и ради этой страсти лошадиной готов был Сидор все, что угодно, сотворить. Конь, приведенный Харитоном, ему поглянулся. До того поглянулся, что он своего приказчика сразу за деньгами послал, даже не спросив о цене. Но Харитону совсем иное требовалось, а не коня продать, об этом и сказал Сидору Махнанову, а тот глаза выпучил — неужели подарить решил, за какие благодеяния? Нет, отвечал ему Харитон, не подарить, а за услугу принять. Какая еще услуга? А возьмите меня на службу к себе, научиться желаю, как торговые дела вести, чтобы дела эти в гору шли, а не так, как у меня нынче — под горку катятся. Махнанов шутить перестал, задумался, а после головой кивнул — приходи.
Года не прошло, а Махнанов без проворного и услужливого Харитона разве что в отхожее место не ходил. Грузил на него все дела без разбору и доверял, как родному сыну, забыв золотое правило: доверять — доверяй, а проверять не забывай. Наказание настигло его за эту забывчивость столь скорое, что он и охнуть не успел, как все нажитое пошло-поехало с молотка, потому что скупил кто-то все векселя махнановские, подписанные на короткий срок, а после кучей вывалил к оплате. А тут еще и Сибирский торговый банк подоспел, как черт из табакерки, выскочил и давай требовать погашения кредита, взятого еще давно.
От невзгод таких, каких раньше никогда не случалось, хватил Сидора Махнанова удар, и лишился он речи. Из каменных хором на главной улице Сибирска пришлось ему съехать вместе с семейством на окраину в простой деревянный пятистенок; из которого он выползал погожими днями на лавочку, опираясь сразу на два костыля, смотрел слезящимися глазами на мир божий и мучительно разевал рот, а по нижней губе текли белесые слюни. Сказать что-то хотел. Но так и не сказал, скончавшись прямо на лавочке.
Харитон выждал время, он по характеру терпеливый был, и потихоньку, не сразу, стал поднимать дела свои в гору, выше, чем Махнанов, поднялся. В последнее время про него и вспоминать не вспоминал, а вот пришлось… И смотрит Сидор, облитый ярким светом, постаревший и поседевший, будто живой, разевает рот, но голоса нет, зато слова, беззвучные, понятны — будь ты проклят, змей подколодный!
Чем дальше двигался Харитон Игнатьевич по проходу, где не иссякал свет, тем больше людей являлось к нему, и вспоминал он, что каждому из них когда-то сотворил зло. Одним большее, другим — меньшее. Отвернуться от них сейчас не мог, потому что непонятная сила толкала в спину, не зная устали. Последней явилась зеленоглазая Полина и ожгла гневным взглядом.
«Да не хотел я твоей смерти, не хотел! Я же о другом думал! Я на руках бы тебя носил! Ноги бы мыл и воду пил!»
Не услышала.
Сверкнула еще раз глазищами, и столько брезгливого презрения просквозило в них, словно Харитон Игнатьевич в куче дерьма стоял, а над ним вонь висела.
«Да неужели я поганый такой?! Неужели прощенья мне нету?! Неужели я чистым никогда не был?!»
Взывал непонятно к кому и не получал ответа. Лишь снова увидел самого себя, маленького, лет пяти, не больше. Поднимаются они на высокое церковное крыльцо с матерью, день жаркий, деревянные доски нагрелись и вливают тепло в босые пятки, как печка. А в церкви прохладно, свечки огоньками трепещут, и лики с икон строго, даже сурово, смотрят. Харитоша слегка оробел, крепче ухватил мать за руку, даже головенку в плечи вжал, но тут увидел на иконе глаза, очень похожие на материнские, и ему легко стало, светло, будто проснулся утром, а в окно солнце светит. Он ближе пошел к иконе, потянул за собой мать и остановился, пораженный, разглядев — руки прижаты к груди, а в грудь вонзились стрелы. «Больно же, — шепотом сказал он матери, — зачем из лука стреляли?» «Это грехи наши, сынок, — услышал в ответ. — Все они стрелами в Богородицу летят и ранят, а она за нас, неразумных, плачет». Маленькое сердчишко сжалось от сочувствия, больно стало, но не так, когда ударишься или упадешь, боль эта была совсем иная, и такая сильная, что он заплакал безутешно и не мог остановиться, пока мать не взяла его на руки и не подняла к краешку иконы. Он ткнулся в этот краешек мокрыми от слез губами, и будто свет вспыхнул…
— Гляжу, а над дорогой свет, я даже струхнул поначалу — какой свет посреди ночи? Подъехал, а он лежит, родимый, коченеет. Ну, я его завалил в сани и поехал, оглядываюсь, а никакого света нет — темень. Как была, так и есть темень. Но свет-то светил, я из ума пока не выжил! Своими глазами!
— После, после расскажешь, порты с его стаскивай, догола раздеть надо, и баню скорей затопляй, а шубу с печки сюда подай… Да шевелись ты скорее, чего как вареный!
Два голоса, один мужичий, другой бабий, бубнили, перебивая друг друга, иногда уплывали куда-то в сторону, стихали, а затем возвращались и снова звучали ясно, совсем рядом. Харитон Игнатьевич пытался разлепить ресницы, чтобы увидеть — кто его обихаживает? Но тяжелые, будто еще не оттаявшие, веки не размыкались. И тела он своего не чуял, ни рукой ни ногой пошевелить не мог, только нестерпимо ломило большой палец, с которого сшиб ноготь.
Сильные шершавые ладони мазали его чем-то пахучим, растирали, после навалилась на него горячая после печки шуба и от живого тепла он вновь затрясся в ознобе, словно оказался опять на морозе. На этот раз озноб прошел быстро, но зато от покалеченного пальца и до самой макушки прострелила боль. Да такая невыносимая, что заскулил без слов, и глаза у него сами собой распахнулись. Первое, что разглядел, — божницу в переднем углу. На ней стояла всего одна икона, но необычно большая, занимавшая почти весь угол. Страдающий взгляд Богородицы, пронзенной стрелами, был устремлен прямо на Харитона Игнатьевича. И он под этим взглядом, проникавшим в самую душу, расплакался, как в давнем детстве, безутешно и горько.
— Ну, и слава богу, кажись, живой, — прозвучал мужичий голос. — Тащи отвар, отпаивать будем…
Через два дня Харитон Игнатьевич сполз с топчана, на котором лежал, укрытый шубой, и даже попытался подняться на ноги, но устоять не смог, плюхнулся на прежнее место — пальцы на ногах, похоже, все-таки отмороженные, не давали твердо стоять на деревянной половице.
— Да не убивайся ты, Харитон Игнатьич, не убивайся. Завтра, как обещал, отвезу тебя в Сибирск, в больничку, там, глядишь, и вылечат. Как молодой, станешь бегать — на коне не догонишь! — И коротко хохотнул, обнадежив его, Егор Силантьевич, хозяин избы, в которой сейчас Харитон Игнатьевич и пребывал. Это он нашел его замерзающим на дороге, доставил в село Успенское, к себе домой, и вместе с супругой, Катериной Федоровной, вытащил купца, можно сказать, с того света.
Харитон Игнатьевич на утешение Егора Силантьевича не отозвался, лежал ничком на топчане, отвернувшись лицом к стенке и больше уже не пытался подниматься. Неожиданно спросил:
— А почему у вас икона такая? Большая…
— Семистрельная называется, а почему большая, не знаю… Такой она нам с Катериной досталась, мы, когда в Сибирь тронулись, нам ее бабка Катеринина вручила, на охрану от плохих людей. Вот так и живем, детей вырастили, внучата галдят, значит, бережет нас икона-то. Ты для чего спросил?