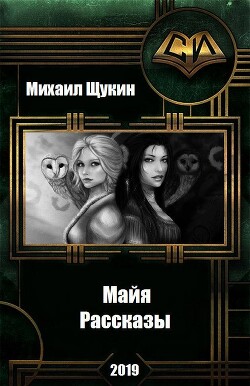Санитарная рубка - Щукин Михаил Николаевич
Время шло, настала очередь деревни Бобровки, до которой семь верст киселя хлебать, а после еще ехать и ехать рука отвалится бичиком размахивать. Но доехали, добрались, явились в просторную избу, где вечерка шумела, и встал Харитон Игнатьевич у порога, как в землю вкопанный, забыв за собой дверь прихлопнуть. Вот она, краса ясная! Отыскалась! И стоит, как на Никольской ярмарке в Сибирске стояла, в начале лета, когда Харитон Игнатьевич впервые ее увидел: зеленые глазищи светятся, бойкие кудряшки из-под платка выскочили, правая рука на дородной груди лежит, словно красавица поклониться хочет, но не кланяется, голову гордо держит и улыбается, обозначая две нежных ямочки на щеках, так улыбается, будто заветное слово знает, произнесет его про себя и приворожит, кого пожелает. Так приворожит, как смолой прилепит — не отодрать. Харитон Игнатьевич прилепился накрепко. Увидел, и степенность его, разумность, осторожность купеческую из головы, сединой уже побитой, одним махом выдуло. Только горячий любовный жар остался. И больше с того дня, даже на короткий час, жар этот не остывал, только нестерпимей становился. Тогда, на ярмарке, кинулся он, обо всем забыв, к красавице, едва на колени не упал, и слова стал говорить, какие в жизни ни разу не выговаривал: и про красоту неземную, и про то, что чуда такого сроду не видывал и что свет ему теперь не мил будет, если не получит он в ответ сердечную симпатию — много слов говорил, все не вспомнить… А в ответ — заливистый смех, задорный и обидный:
— Дядичка, а чего ж ты с пустыми руками разбежался?! К девицам, если завлечь желают, с подарками подходят, ленты, бусы, пряники дарят…
И хохочет, хохочет, заливается, будто колокольчик под дугой на сильном скаку звенит беспрерывно.
Не побежал, а полетел Харитон Игнатьевич, земли не касаясь, к своей лавке, схватил мешок, какой под руку подвернулся, сгреб в него, что на прилавке оказалось, и тем же манером, на одном вздохе, на прежнем месте оказался А там — пусто. Исчезла красавица, будто на небо воспарила. Давай расспрашивать — не видел ли кто, куда она делась, не знает ли, откуда приехала и кто такая… Но лишь одно допытался: с отцом вместе на ярмарку приезжала, из какой-то деревни, а вот как деревня называется — неизвестно.
Вот тогда и отправился Харитон Игнатьевич по ближним деревням с поиском, да только пустыми те поездки оказывались. Но отступать он не желал, потому как жар любовный не утихал, только сильнее разгорался. Стала девица по ночам сниться, глазищами зелеными светит, хохочет и ручкой к себе манит. Харитон Игнатьевич посреди ночи вскинется и больше уже уснуть не может, до самого утра в темный потолок смотрит, а сердце так бухает, что в ушах звенит.
И вот наконец-то отыскал красавицу в Бобровке. В этот раз, встав перед ней, никаких слов не говорил, будто позабыл их все, какие знал, только рукой махнул, давая знак Кирюшке, чтобы подарки тащил: А когда тот притащил, перехватил мешок, завязки раздернул и вытряхнул содержимое прямо под ноги девице, шапку с головы сдернул и об пол — хлоп! Выдохнул, заново обретя память на слова:
— Глянешься ты мне! Пойдешь за меня?
Не засмеялась в этот раз девица, даже не улыбнулась, нахмурилась, изогнув темные брови, и отрезала:
— Не пойду я за тебя, дядечка, ни за каки коврижки! Лучше в петлю головой или в омут нырнуть, чем со стариком мучиться. Отступи! Дай дорогу!
Так властно сказала, что Харитон Игнатьевич отступил в сторону, а девица, перешагнув через подарки, просквозила мимо, шубейку с шалью схватила и только двери состукали. Харитон Игнатьевич шапку с пола поднял, отряхнул об колено, и вышел следом, в бороде у него шевелилась довольная улыбка. Ни капли не огорчился, получив отказ, уверен был, что своего не мытьем, так катаньем обязательно добьется. Потому и не побежал следом за норовистой девицей, не стал ее по второму разу уговаривать и горы золотые сулить, а просто постоял под снежком, который густо сыпался с неба, остыл и приказал Кирюшке, чтобы тот нашел приличную избу для постоя — без печного угара и без тараканов.
Изба нашлась. Чистая, теплая, со цветными половиками, с пуховыми подушками на деревянной кровати и с горячим самоваром. За самоваром, пока чаек прихлебывали, Харитон Игнатьевич у словоохотливой хозяйки, положив под блюдце красненькую ассигнацию, все и выпытал, что ему требовалось: зовут девицу зеленоглазую Полиной, по отчеству Семеновной; в многодетной семье Рогулиных, где шестеро ребятишек, она старшая. Живут Рогулины бедно, белый хлеб пшеничный едят только по великим праздникам, а избенка их стоит крайней в соседнем переулке, только и богатства, что высокие тесовые ворота, поверху украшенные деревянной резьбой.
— Вот завтра, как рассветает, ты к этой избенке и сбегаешь, — твердо, как о деле решенном, сказал Харитон Игнатьевич и блюдце, под которым ассигнация лежала, прямо под руку хозяйке подвинул.
— И по какой надобности я побегу — полюбопытствовала бойкая бабенка.
— Я тебя научу, как сказать. И кому сказать — тоже научу. Только ты раньше время никому не звони, держи язык за зубами. Будешь хорошо держать, еще денежку получишь…
Назавтра, как только рассвело, хозяйка, наспех накинув шаль, заторопилась к соседям. Долго не возвращалась. Харитон Игнатьевич терпеливо ждал, время от времени поглядывая поверх занавесок в окошко. Наконец, хозяйка вернулась, и не одна, следом за ней шел мужик и буровил неулежалый вчерашний снег большими пимами, словно не имел сил поднимать ноги. Это был Семен Рогулин, отец зеленоглазой Полины. Пимы от снега он на крыльце не обмел и втащил на половики две кучи снега, растоптал их, переминаясь с ноги на ногу, затем стянул с головы шапку, степенно перекрестился, глядя на иконы в переднем углу, и лишь после этого обозначился громким голосом:
— Здорово живете! Говори, купец, я слушать буду.
— Может, за стол пройдем, сядем, в ногах правды нет.
— В заднице ее, правды-то, тоже не бывает. Говори скорей, мне еще по сено нынче ехать…
Вот так, стоя у порога, они и договорились, будущий тесть с зятем, без долгих разговоров и без лишних слов. Ударили по рукам и разъехались: Харитон Игнатьевич к себе домой, в Сибирск, а Семен Рогулин — по сено.
Встретились через неделю, на въезде в Бобровку. За легкими санками, на которых ехали Харитон Игнатьевич с Кирюшкой, тяжело тянулись еще две подводы с грузом, закрытые рогожей и перетянутые веревками.
— Вот, как обещал, — махнул рукой в сторону подвод Харитон Игнатьевич. — И одежка там, и обувка, и мука, и крупа, и все остальное. Забирай вместе с конями и с санями.
— А деньги? Позабыл?
— Ишь ты, какой памятливый! Держи, как обговорено, из рук в руки деньги эти передаю. Кирюшка, видишь?! Будь свидетелем!
— Вижу, вижу! — весело отозвался Кирюшка, которому все действо, происходившее на его глазах, было в забаву.
Степенно, не торопясь, Семен сплюнул на пальцы и пересчитал деньги, скрутил ассигнации в трубочку засунул куда-то глубоко под полушубок и потуже перетянул опояску. Харитон Игнатьевич поторопил:
— Чего стоим?! Поехали!
— Куда? — спросил, не поднимая головы, Семен и еще раз, натуго, затянул на опояске узел.
— Как — куда?! Свататься! Уговор дороже денег! Ты со мной шутки не шути! Я свое выполнил…
— И я выполнил. Вон, забирай добро, ездить никуда не надо. — Семен оставил опояску в покое, сдвинулся с места, буровя снег пимами, приблизился к своим саням, сдернул легкое рядно, которым они были накрыты, и еще раз повторил: Забирай!
Харитон Игнатьевич, след в след, за ним к саням сунулся и обомлел: вот тебе, купец, и товар красный, уложенный и перевязанный, только яркой ленточки не хватает — суровой веревкой перехвачена конская попона, а в попону эту Полина замотана, по самые плечи, только голова виднеется. Рот, чтобы не кричала, платком перетянут. Зеленые глазищи сверкают, и столько в них ненависти, что впору от одного лишь взгляда спички зажигать. С норовом девица оказалась, ясней ясного, что против отцовской воли пошла, да тут же, видно, и запнулась — сурово отец Семен сватовство провернул: без долгих разговоров, без застолья, без препирательств о приданом и без споров о том, когда сподручней свадьбу играть. Будто ломоть от хлебной краюхи отломил — не приставить теперь и не приклеить.