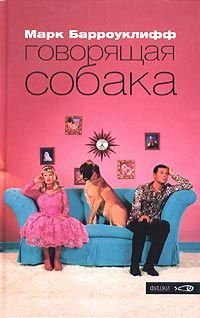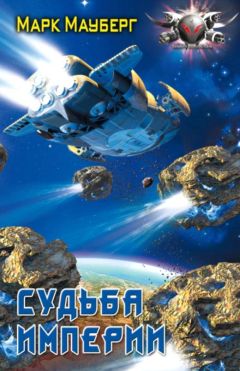Марк Барроуклифф - Говорящая собака
Эти «пожалуйста, возьмите» и «нет, не могу» продолжались до самой стоянки таксомоторов. Мы перебрасывались ими с упорством теннисистов, не теряющих надежды пробиться в финал Уэмбли. Наконец мне удалось всучить ей двадцатку и помахать на прощание из окошка.
— Только обязательно в постель! — крикнула напоследок Люси, и я газанул.
Свобода.
Над городом смыкалась ночь, когда мы подъезжали к заведению Змееглаза. По дороге пес развел критику.
— Мне не нравится, когда ты обманываешь Люси, — сказал он. — Тем более она прекрасно знает, когда ты лжешь.
— Во-первых, я не врал, — ответил я, — и, во-вторых, она ни о чем не догадывается.
— Догадывается, уж я-то знаю, — проницательно заметил пес.
— Интересно, каким же образом ты мог…
— Она похолодела, и у нее заурчало в желудке. Так всегда бывает от недоверия, — заявил Пучок. — И потом, она взбудоражена. До чего ты ее довел! Вообще, нет ничего проще, чем раскусить приветника, когда он начинает обманывать. — Теперь он сидел прямо у меня за спиной, водрузив свою голову мне на плечо. — Все просто, как в машине, — сжатие-расширение. Поры раскрываются, на коже выступает пот, железы выделяют секрет.
— И как же собаки узнают обо всем этом?
— Мы известны чувствительностью носов и ушей и настроены на тонкие вибрации эмоционального мира, приучены воспринимать его путем, который невозможно объяснить приветникам, несмотря на их силу и неограниченный доступ к пище. Я имею в виду, на этом все и сходится, не так ли, Приветник?
— Что ты этим хочешь сказать?
— Вы думаете, когда собаки обнюхивают вас, это приветствие.
— Так и есть, — сказал я. — Ты не можешь спорить с этим.
— Вот это, — сказал пес, — приветствие!
— Пучок! — рявкнул я, оборачиваясь и заставая пса с задранной задней ногой — в классической позе фонарного салюта восточноевропейской овчарки.
— Мир запахов открывает много тайн, — продолжал пес. — Я по запаху могу определить, что чувствует данная особь, из какой она семьи, могу узнать исторические факты, связанные с родством.
— Ты не можешь определить все это по фонарному столбу, — категорически заявил я.
— Как в таком случае я смог узнать все о Чартерстауне?
— Потому что ты мой симптом.
— Как? — удивился он.
— Ты признак того, что я схожу с ума, заработался, впал в депрессию, а все остальное я просто вспомнил, потому что где-то когда-то слышал. Ты же, точнее, твой голос — не более чем галлюцинация.
— Ничего себе, — обиженно возразил пес. — А если я тебя так назову? Может быть, ты — только симптом моего безумия. Откуда ты знаешь, что перед тобой реально, а что лишь плод воображения?
Теперь выражение морды у него было точно у престарелой домохозяйки, которая спорит с молочником, не принимающим у нее бидончик лишь потому, что ему не нравится, как из этого бидончика пахнет.
— Я не собираюсь вести философские диспуты с собакой!
— Философия как раз и доказывает, что не следует полагаться на субъективную реальность, — говорил пес, — потому что любой может утверждать что угодно. Ваш ход?
Вид у него был такой, точно он только что принес мне палку и, виляя хвостом, ждал, когда же я ее брошу.
— Ладно, если вы, собаки, так чувствительны к эмоциям, тогда ты должен знать, как я себя чувствую сейчас, — сказал я, постаравшись принять непроницаемый вид и хмуро поглядывая в его сторону.
— Разбитый велосипед, диетическая кола, которая тебе не нравится, но все равно ее покупаешь, и сандвич с тунцом, хотя тебе на самом деле хочется БЛТ — Бекон, Лук и Томатный соус. Шины, скользящие по асфальту, и увядшие цветы, — сказал он.
Боже мой, завтра непременно к доктору! Доктор меня ждет.
— Я спросил, что я чувствую, а не чем пахну.
— Запах и есть чувство, а чувство — запах, — сказал пес с озадаченным видом. — Нельзя описать одно без другого.
— Разбитые велосипеды, — процедил я сквозь зубы, — это не запах.
— В твоем случае как раз запах, — уверенно сказал пес.
— Тебе бы лучше помолчать, — заметил я. Бросил я. Последний раз я был вблизи разбитого велосипеда, когда под ним лежал отец.
Мы подкатили к заведению Змееглаза. Оно располагалось в особенно непривлекательной части исключительно мерзкого прибрежного городка. Я уже был весь как на иголках, как всякий раз перед игрой.
— Слушай, — сказал я собаке. — Я должен буду сосредоточиться. Так что не отвлекай, и еще, если можно?
— Что? — с готовностью повилял он хвостом.
— Заткнись на время игры. Ни слова, понял?
— Вы пухнете и пахнете в присутствии Люси, — заявил Пучок. — А все оттого, что вы находите ее чертовски привлекательной. У нас, собак, это называется любовью.
На слове «любовь» он вытянул шею и заглянул мне в глаза из-за моего плеча, точно цыган со скрипкой в ресторане: «Музыку для вашей леди?»
Итак, любовь — это «пухнуть и пахнуть».
В окне вспыхнул свет, и показались силуэты игроков. Я зажал собачью пасть и зашипел:
— Больше ни слова!
— Как я могу? — обиженно пробубнил он из-под ладоней. — Между прочим, губу прикусил.
Я отпустил его только после того, как вырвал обещание молчать.
— Я нем как рыба, — заверил меня пес.
— Вот так и продолжай.
— Да чтоб мне лопнуть, сэр, если вы хоть слово услышите от меня на столь ответственном мероприятии. — Он облизнулся. Я принял это за заверение в чистоте помыслов.
Пес выпрыгнул из машины следом за мной, тут же зарулил в садик перед домом и задрал ногу на жестяную табличку: «По газонам ходить воспрещается!». Последовал звук, напоминавший жужжание дверного звонка, и раздался он прежде, чем я успел нажать на кнопку.
У входа меня встретила мамаша Змееглаза.
Это была симпатичная шотландка, умудрявшаяся сохранять обаяние, несмотря на многочисленные удары и затрещины судьбы: супруга-алкоголика, детей-неврастеников и на то, что в ее собственном доме с ней обращались хуже, чем с рабыней. К тому же она с трудом переводила дыхание благодаря непомерному числу выкуренных сигарет.
Миссис Ватт видела лишь светлую сторону вещей. Один из игроков, художник и декоратор по прозвищу Мистер Бережливость, никогда не плативший долги, пока перспектива познакомиться с горячим утюгом, приложенным к заднице, не становилась предельно близкой, как-то сказал про их ветхий дом, что у них, дескать, обои трещат по швам.
— Ни хрена, милый мой, — спокойно отвечала она, — обои здесь ни при чем, это просто стены в доме слишком прямые.
Она переехала из горной Шотландии к покрытому смогом и туманами южному побережью, как рассказала однажды, угощая меня сандвичем с рыбной пастой, потому что это было самое удобное место для дома.