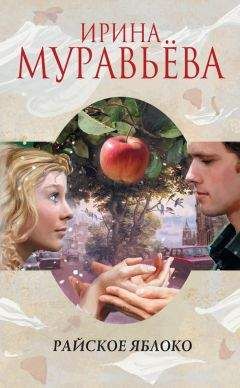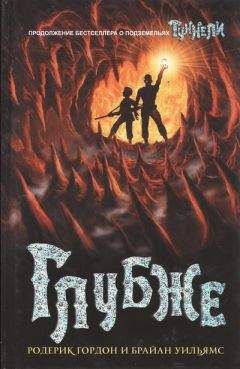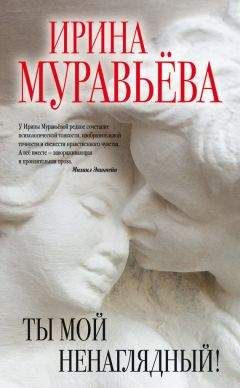Ирина Муравьева - День ангела
Новый год мы встречали у Буллита, было много русских знаменитых гостей, с которыми Буллит очень заигрывает. Как только попадаешь внутрь особняка, и Москва с ее бедно одетыми людьми остается в темноте и холоде, а ты в тепле, освещенном десятками люстр, и перед тобою плывут нарядные женщины с голыми плечами, на которых переливаются драгоценности, сразу начинает кружиться голова, перестаешь понимать, что сон и что явь: эти комнаты, где скользят официанты с подносами и слепит глаза от хрусталя, или та нищая жизнь, которая мерзнет в снегу за порогом.
Начался вечер. Официанты поспешно распечатывали массандровские вина, хранившиеся, как нам сказали, в подвалах еще с царских времен, подливали в хрустальные штофы холодную водку, которую здесь полагается закусывать молочными поросятами. Потом принесли горячую закуску: блины с икрой, севрюжий бок и отварную форель. В зале все время играла музыка, и пары уходили танцевать, потом опять возвращались в столовую. Оркестр здесь великолепный. Я начала было выискивать глазами Дюранти, потом спохватилась и крепко взяла под руку своего Патрика. К нам подошли Буллит с женой, она у него, наверное, итальянка или испанка – очень жгучая, очень сильно накрашенная женщина средних лет, вся в бриллиантах, на черное шелковое платье накинут белый песец. Жена Буллита спросила, как мне живется в России, и я сказала, что мне бы хотелось вернуться в Лондон или хотя бы ненадолго навестить свою семью в Париже, потому что здесь мне все чужое. Она очень высоко подняла свои выщипанные нарисованные брови и посоветовала не воспринимать вещи трагично, потому что в нынешней Москве «так интересно»!
– Кроме того, – добавила она, – Москва не должна вам казаться чужой, вы же русская.
Как они ничего не понимают, Лиза! Как они бездушно на все смотрят! Люди вокруг живут впроголодь, продукты выдают по карточкам, перед промтоварными магазинами с вечера выстраиваются тысячные очереди, ждут открытия, ночуют в подъездах, чтобы хоть что-то купить, манку получают только больные дети по рецепту врача, а мадам Буллит и ее американским дамочкам «так интересно»! Помнишь, как мама говорила, что, пока человек не научится чувствовать чужую боль, мир останется таким, какой он есть. И вера в Бога, вера в Христа есть не что иное, как память о том, что рядом всегда кому-то больно.
Ничего такого я ей, разумеется, не сказала. Заметила только, что мне не совсем понятно, почему все так напирают на мою «русскость»: ведь мои родители убежали из России, спасаясь от нового режима, нам очень многое пришлось пережить, и мы ни в коем случае не отождествляем себя с тем большевистским «русским», которое здесь победило. Мадам Буллит снисходительно выслушала, но мне показалось, что она очень далека от подобных рассуждений и вообще не терпит никакой «философии».
Дюранти нигде не было, и мне стало тоскливо. Только тебе могу признаться, Лиза: мне хочется – да, хочется – чувствовать на себе его жадные глаза. Теперь я поняла, что значит, когда говорят: земля горит под ногами. Когда он рядом, у меня начинают гореть ступни, как будто я наступаю на раскаленное железо. Я знаю, что он негодяй, верю Патрику, который сказал, что порядочные люди должны стыдиться знакомства с ним, но то, что происходит со мной, когда я вижу его, – это не моя вина, это что-то в крови моей, что-то стыдное, запретное просыпается во всем моем теле!
В половине двенадцатого погасили верхний свет, все собрались в беломраморной зале, где были танцы, опять выстроилась цепочка официантов с подносами, на которых стояли фужеры с армянским коньяком, тонко нарезанными лимонами на розеточках, открытые коробки папирос «Казбек» и «Герцеговина Флор». Говорят, что это любимые папиросы Сталина. Все время играла музыка, и наконец в полутьме ярко вспыхнула новогодняя елка, и Буллит с женой начали раздавать подарки, которые приволокли три официанта в огромных, украшенных еловыми ветками корзинах. Мужчины получали трубки, бинокли, красивые авторучки, а женщины – помаду в золотых коробочках, флаконы духов, шоколадные конфеты. По радио услышали поздравление от правительства, как всегда очень хвастливое и одновременно угрожающее, потом официанты быстро обнесли всех шампанским и разбросали по полу белые и красные розы. Ты не представляешь себе, какой стоял запах: зимы и мороза – от свежей елки и летнего парка – от этих только что срезанных в оранжерее влажных цветов. Пробили кремлевские куранты, и все начали поздравлять друг друга с Новым, 1934 годом. Я поцеловала Патрика, прижалась к нему, и так мне хотелось верить, что все исправится, все будет хорошо!
И тут я услышала:
– Hi, Walter! O, here you are![41]
Навстречу Буллиту, широко распахнувшему руки, прихрамывая, протискивался Дюранти в ослепительной рубашке и черном фраке, а за ним, улыбаясь, шла блондинка, которую я уже видела в Большом театре. На ней было длинное темно-красное бархатное платье – такого густого, яркого цвета, словно ее всю только что окунули в кровь, а на маленькой, как у птицы, белокурой голове переливалась бриллиантовая (неужели настоящая?) диадема. Я отвернулась, чтобы не смотреть на них, но успела почувствовать, что он увидел нас и опять – опять! – словно бы проглотил меня этими своими прозрачными и наглыми глазами.
Вдруг Буллит громко, как фокусник, хлопнул в ладоши, и в залу вползли три огромных тюленя в сопровождении дрессировщика. На головах у несчастных животных были венки из живых цветов, а носами они удерживали разноцветные резиновые мячики, которыми по знаку, полученному от своего дрессировщика, начали перебрасываться. Все захлопали и захохотали. Дрессировщику поднесли огромный бокал шампанского, который он выпил одним махом, потом раскланялся и под громкую музыку удалился вместе со своим тюленьим цирком.
В главной столовой был накрыт ужин: целиком запеченные куропатки и поросята, обилие экзотических фруктов, всех видов закуски, салаты. Есть уже никто не хотел, но все-таки мы расселись: кто пощипал крылышко куропатки, кто оторвал несколько виноградин. Опять пошли танцевать, и танцевали до утра. На рассвете подали крепкий кофе, чай, ликеры, печенье, конфеты, и наконец повар, толстый и румяный, как сдобный хлеб, в накрахмаленном колпаке и колом стоящем на его надутом животе белом фартуке, торжественно поставил на середину стола огромный белый торт, на котором ярко-красным кремом было выведено: 1934.
Вернулись домой в восьмом часу. Голова моя шла кругом от этой сумасшедшей ночи. Я не хочу так веселиться. Мне плохо здесь, гадко. Пусть Патрик съездит на Волгу и Кубань, сделает репортаж, а когда он вернется, я поставлю условие: если он хочет работать в Москве, ему придется жить здесь одному. Мне это все не под силу.