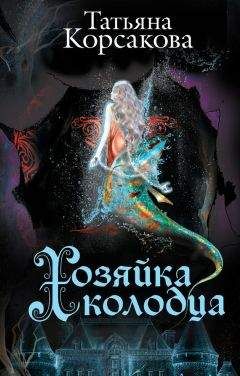Владимир Познер - Одноэтажная Америка
Представьте себе, вы входите и не видите ни одного белого лица. Зато вы видите сотни лиц красноватых. Это индейцы, или, если придерживаться политкорректной терминологии, «Native Americans» («туземные американцы»), Молл ими буквально забит, они приезжают сюда целыми семьями именно по субботам, это, как мы выяснили, у них нечто такое же обязательное, как «банная суббота» для любителя попариться в России.
Больше всего меня поразила их внешность. Для меня, зачитывавшегося в детстве книжками Фенимора Купера, индейцы отличаются необыкновенной стройностью, они красивы, у них чеканные черты лица, они горды и независимы, я знал названия многих индейских племен — делаверы и могикане, чероки и команчи, су и навахо. Кстати, вот, что писали Ильф и Петров:
«Наваго ненавидят и презирают «бледнолицых братьев», которые уничтожали их несколько столетий… Эта ненависть сквозит в каждом взгляде индейца… Индейцы почти совершенно не смешиваются с белыми. Это многовековое сопротивление индейцев — вероятно, одно из самых замечательных явлений в истории человечества».
И еще:
«В последний раз мы смотрели на пустыню наваго, удивляясь тому, как в центре Соединенных Штатов, между Нью-Йорком и Лос-Анджелосом, между Чикаго и Нью-Орлеаном, окруженные со всех сторон электростанциями, нефтяными вышками, железными дорогами, миллионами автомобилей, тысячами банков, бирж и церквей, оглушаемые треском джаз-бандов, кинофильмов и гангстерских пулеметов, — умудрились люди сохранить в полной неприкосновенности свой уклад жизни».
Совершенно определенно хочу сказать: нет, не сохранили. Почему-то стоит перед глазами такая картинка: в отделе молла, отведенном для детей, индейский мальчик лет пяти сидит верхом на пластмассовой лошадке-качалке и с веселым гиканьем погоняет ее. А неподалеку сидят за столиком его родители — пузатые карикатуры на Чингачгука — и уплетают фаст-фуд, запивая его большими картонными стаканами кока-колы.
В день нашего приезда на одной из городских площадей в рамках фестиваля индейской культуры состоялся вечер индейских танцев. Под барабанную дробь и звук свистулек представители разных племен в традиционном убранстве плясали. Лично у меня это зрелище вызвало лишь щемящее чувство жалости и тоски по чему-то такому, что ушло навсегда. Один из музыкантов по имени Фернандо оказался, как он сам сказал, «пропагандистом культуры» своего народа. На следующий день мы приехали к нему в резервацию — в небольшое поселение, где живут индейцы племени зуни-пуэбло. Такой нищеты я давно не видел.
Плохенькие дома, кучи мусора, бродячие голодные собаки. В доме Фернандо причудливое смешение современной цивилизации и остатков «индейского». Его мать, женщина престарелая, целыми днями сидит у огромного плазменного телеэкрана, уставившись в нескончаемый поток «мыла». Фернандо сидит за столом и ест, откладывая маленькие порции овощей для «добрых духов», прося их о дожде. При этом он сообщает мне, что он, как и большинство жителей поселения, католик. На улице его жена подкладывает в глиняную печь дрова и, когда они прогорают, засовывает туда приготовленное ею тесто. Через несколько часов будет готов хлеб.
— Двадцать семь больших хлебов, — говорит она с гордостью.
— Двадцать семь? — переспрашиваю я. — А зачем столько?
— Для семьи и на продажу, к нам приезжают из других поселений, где нет печей. Там уже забыли, как это делается.
Зрелище тягостное.
— Как вы предпочитаете, чтобы вас называли, — спрашиваю я Фернандо, — туземным американцем или индейцем?
— Да мне как-то все равно, — отвечает он, — хотя я больше привык считать себя индейцем.
— А как вы относитесь к слову «резервация»?
Фернандо пожимает плечами, улыбается и молчит. Потом говорит:
— Знаете, до 1924 года нам, индейцам, было запрещено покидать резервации. Сейчас все-таки стало получше.
Выхожу на улицу и вижу, как Ваня помогает хозяйке с дровами. Брайан на полном серьезе говорит ей:
— Спасибо большое. А то до сих пор я не видел, чтобы он работал.
Ваня не находит ответа, и поэтому делает вид, что ничего не слышал. А мне хочется уехать отсюда как можно скорее.
На прощание Фернандо дарит мне чудесный нашейный амулет — черепашку, сделанную из какого-то местного камня красного цвета. Во время путешествия лопнул тонкий кожаный шнур, на который она была вдета, и черепашка потерялась. Ужасно жалко.
Обратно в Галлоп мы ехали молча. Потом я сказал, что настроение у меня отвратительное, что Америка повинна в геноциде, потому что на самом деле индейцы уничтожены — не только и, быть может, не столько физически, сколько духовно: они уже не индейцы, но и не американцы в общепринятом смысле слова.
Ваня не совсем согласен. Он считает, что когда традиции сталкиваются с современной цивилизацией, они не выдерживают, происходит то, чему мы были свидетелями, ничего с этим сделать нельзя.
Брайан говорит мне, что я не прав, что потрачены миллионы и миллионы долларов, чтобы помочь индейцам, что американцы давно осознали свою вину и стараются ее искупить.
Ерунда.
Вспоминаю разговор одного индейского вождя с французским писателем (я эту книжку прочитал незадолго до начала нашей поездки). Писатель спрашивает вождя, почему не построят Музей холокоста, как построили в Вашингтоне в память уничтоженных нацистами во время войны евреев, только на этот раз в память уничтоженных индейцев? Вождь ему отвечает: «Такие музеи строят, когда война окончена. Наша продолжается».
Нет, это не так. Война окончена и проиграна.
* * *В Галлопе мало достопримечательностей. Есть знаменитая гостиница «Эль Ранчо», которую построили в 1937 году в стиле «Дикого Запада» для съемок вестернов. Стены все увешаны фотографиями голливудских звезд, перед которыми благоговейно застывают туристы. Местный знаток истории города с нескрываемым удовольствием рассказал нам о том, как всеамериканский герой Джон Уэйн как-то въехал в гостиницу и в бар на коне.
Мы сами набрели на другую примечательность: целая стена дома представляет картину, на которой изображены индейцы племени навахо, — кто в народном одеянии, кто в военной форме. Надпись гласит, что во время Второй мировой войны японцы перехватывали и легко расшифровывали всякого рода секретные американские сообщения. Индейцы навахо предложили использовать в качестве шифра их язык, и как ни старались японские эксперты, разгадать его они не сумели.
Еще нас пригласили на вечернюю облаву выпивших водителей. Полиция останавливала все машины подряд, все это делалось перед специально построенной трибуной, на которой собралось человек сорок местного — в основном индейского — населения. Чем-то это напомнило мне имевшие место в советское время «месячники» того или сего дела, только это был не месячник, а показательный вечер. Никого не арестовали, но шериф сказал мне, что проблема алкоголизма в Галлопе является очень тяжелой: пьют в основном индейцы, которые, как и многие «малые» народы, отличаются крайне низким сопротивлением к алкоголю. Пожалуй, самой интересной была встреча с полицейским, чья овчарка понимала команды только на голландском языке. Сама собака была родом из Голландии, а полицейский выучил необходимые команды на ее родном языке. Зачем? А затем, объяснил он, чтобы больше никто не мог разговаривать с ней. Ваня попробовал обратиться к ней по-русски, но быстро отстал: уж больно недружелюбно она стала смотреть на него.