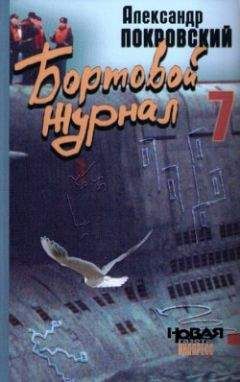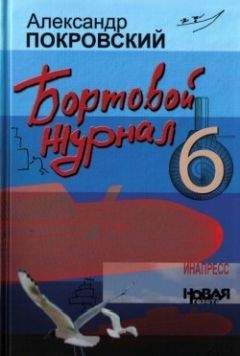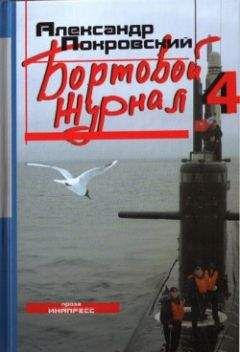Александр Покровский - Бортовой журнал 2
СССР за всю свою историю смог переработать только 10 тысяч тонн.
Кстати, в результате такой переработки получаются отнюдь не цветы. Из одной тонны получается: 45 тонн высокоактивных жидких отходов (из них потом упариванием, фракционированием и остекловыванием получают 7,5 тонн), 150 тонн жидких отходов средней активности и 2 тысячи тонн низкоактивных отходов. А потом – твердые запечатываем в гору, а жидкие, как уже сказано, сливаем в море – вот такая беда.
А хранение в специальных хранилищах? Хранят, конечно.
Отработанные стрежни хранят в специальных хранилищах. Пятьдесят лет.
Потом и хранилища придут в негодность, и стержни.
Это наш подарок следующим поколениям.
Вот если бы был выбран не уран-плутониевый цикл, а торий-урановый (торий-232 после захвата нейтрона испускает электрон и превращается в уран-233, который потом делится), то радиоизотопный шлейф за ним тянулся бы не такой длинный и возни с ним было бы поменьше.
Но тогда не было бы оружейного плутония.
* * *У меня была когда-то дача, где я пытался воспитывать своих соседей по участку, которые постоянно жгли мусор. В первую очередь – отжившую свое пленку с парников. Я им объяснял: ребята, вы же даже не в курсе, что вы все время палите – то ли полиэтилен, то ли полихлорвинил. И потом – это же совершенно другая структура. Когда вы жжете, образуется, мягко говоря, непонятно что, которое к тому же еще и воняет ужасно.
Ну неужели трудно запихать это дело в машину, отвезти в город и сдать на переработку?
Ну, если и правда трудно, то хотя бы смастерите из этих остатков что-то наподобие трубы для дренажа, что ли!
Но очень скоро я понял, что им это в принципе не нужно. Человек просто не понимает, что если ты, к примеру, оставил где-то какой-то пакет с мусором, то через некоторое время рядом с ним будут лежать уже двадцать, а потом пятьдесят, сто пакетов. А потом приедет бульдозер, всю эту дрянь свалит в яму и сверху заровняет, вроде как здесь и не было ничего. Вот только через некоторое время на этом месте заколосится бурьян.
Людям не объяснить, что они потом все это едят.
Да, в принципе разные растения ведут себя избирательно: одни, например, могут поглощать свинец, а другие могут его и не трогать. Но микроскопические штуки этого свинца все равно попадают в кожу растений, еще во что-то…
В конце концов, человеческий организм – он ведь то же сито: что-то на нем обязательно оседает (стронций, к примеру, или радиоактивный йод), а что-то проходит через него транзитом. Без толку. Есть такое русское слово – бестолочь, означающее «без толку толочь».
Главная беда свалок в том, что они текут. И происходит это в толще недр под этими свалками. Слава богу, что в основном это пока еще как-то разбавляется самой матушкой-природой. Но природа все чаще уже не справляется. Результат – мутация всего живого.
* * *Человечество загадило все что можно, и на этом фоне люди сохраняют, скажем, панду, делают ей какие-то прививки. И никто не задумывается, что скоро не будет ни панды, ни «манды» – никого не будет! Ситуация ухудшается в геометрической прогрессии. Зайди в магазин – сколько за эти годы появилось новых упаковок. Так мало того – на одну упаковку надета другая, та завернута в третью, и все это помещено в картонную коробку. Все! Повторяю: все должно быть утилизировано. Если сегодня что-то по разным причинам утилизировано быть не может, значит, это пока просто не имеет права на существование. В противном случае, как я уже говорил, утилизировать будет матушка-природа. А она подходит к этому вопросу очень просто – создает мутантов.
Зона, про которую мы читали у Стругацких в «Пикнике на обочине», – это не фантастика, ребята. Это наш с вами завтрашний день.
И еще: надо вытаскивать человека из бомжового состояния.
Сегодня человек у нас – бомж, потому что мусор – он не только вокруг нас, он еще и в сознании.
Какие животные всегда дерутся до крови, до смерти? Живущие на помойке голуби и вороны.
Мусор воспитывает агрессию, недаром и крысы столь агрессивны. Так и здесь: психология мусора превращает человека в очень страшное животное. В непредсказуемое, опасное животное.
* * *Гвадалкавирий! Я вне себя от ярости! Вообразите, некоторые философы, уподобленные шакалам (да посыплет им голову Везувий пеплом, да омоет им чресла Тибр уксусом), не любят трубопроводы! Трубопроводы – это последний очаг нашей цивилизации и прибежище нашей культуры! Ибо что есть наша культура, как не то, что бежит по этим трубам дробным скоком? И разве не там происходит наше сношение со всем остальным миром?
Недаром же Тиберий (да продлятся его дни не суетно, но вечно), где бы он ни явил себя миру, незамедлительно оживляется разговорами о трубопроводах. И все внимают ему с пониманием, делающим честь их достоинству и рассудку.
Какой радостью светятся глаза его преданной челяди, когда речь заходит об изгибах и извивах трубы, несущей свет и тепло в самый край Ойкумены! И сколько мы при этом слышим славных, забавных и убедительных объяснений!
Их просто тысячи, этих объяснений, просто тысячи! И даже медленное подыскание светозарным логических доводов (что случается: de gustibus non est disputandum) говорит, скорее, о скромности его натуры, чем о неповоротливости его печени.
Трубы, призванные сочленять и примирять, не они ли, соединенные, учат мирному созерцанию и деликатной дремоте!
Словом, нет слов!
Твой Плиний (старший).
* * *Смех может быть пониманием. Человек вдруг понял мир. Принял его. Это уравнивание человека с миром. Или примирение. Часто через абсурд.
* * *Коля говорит, что смех – это счастье уверенности в самом себе. Даже в самом тупом варианте, когда человек давится от смеха, задыхается. Он видит себя в ситуации. Он видит, что он есть. И это вызывает в нем животный пароксизм удовольствия. Умно.
* * *Что такое смех в русской литературе?
Даже не знаю. Русская литература – она же не смешная.
А Гоголь? А Гоголь не смеется. Он воспроизводит речь, которая сама по себе смешна. Например: «Брешет, сучий москаль!»
Там нет комизма ситуации. Гоголь не комичный. Там смеешься от удовольствия при чтении. У него такие слова встречаются, которые замечательны сами по себе. Там все такое кругленькое, маленькое, когда смешными словами надо говорить о серьезных вещах, и ты вдруг понимаешь, что ты увидел то, что не должен был видеть.
Он певуч, он лиричен, он задумчив, он печален – а все вместе это смешно. Удовольствие.
* * *Салтыков-Щедрин? Он не смешной. У него та же манера, что и у Гоголя: он работает над словом. Он пародирует случай. Он хорошо знает мир чиновников.
Гоголь знает этот мир хуже, и потому он не может описать его так, как это делает Салтыков, у него нет чиновного опыта, но зато он чует. Он лучше чует мир. Через язык. Там же не обязательно иметь опыт. Можно услышать язык, и в нем уже будет весь человеческий опыт. Можно через язык и через абсурд выстроить логику.
А у Салтыкова-Щедрина логика железная. Он это все знает. Он чиновник высшего полета. И если он пишет, что «я приехал в этот город, и на этом вся моя жизнь кончилась», то это же правда. Она у него действительно кончилась.
* * *Коля говорит, что Гоголь не знает, что происходит, и когда его читаешь, то там все дело в плавании по его языковым структурам. Тебя омывает восхитительный русский язык. Он невероятно точен, лиричен, он видит зерно вещей, зерно речи, но одновременно он все свои истории до конца не доводит, он их комкает. «Шинель» – недописанный рассказ. Он превращен в анекдот. Он начинается с такого невероятного лирического замаха, а в конце превращается в довольно плоскую притчу. Точно так же устроены «Мертвые души», где к прекрасному повествованию зачем-то приставлена биография Чичикова.
Коля считает, что, пользуясь пародийным языком, языком лингвистического абсурда, ситуацию объять невозможно. Ситуация оказывается то ли больше, то ли незначительней, то ли неинтересней, и она куда-то выползает из языковой территории.
* * *Гоголю вдруг становится неинтересен сюжет. Он его начинает, а потом сюжет его перестает волновать. Он сначала замахивается на большое, а потом его увлекает маленькое: какие-то детали, деталюшечки.
Есть у него рассказы, которые словно не окончены, или ему лень было их оканчивать, или он решил, что их можно не оканчивать, – невелика беда.
Это такое сращивание анекдота с великим языковым эпосом.
Большое и малое. Именно в силу этого и рождается смешное.
* * *Коля как-то говорил мне, что Розанов жестоко упрекал Гоголя. Он его чуть ли не обвинял в сатанизме (условно говоря). Он считал, что Гоголь очень виноват. Комизм ситуации, над которой можно посмеяться и забыть, он превратил в комизм языка, который не забывается и в силу этого становится опасным.
Я сказал, что Розанову надо было оставаться Розановым и не писать о Гоголе. Потому что это все равно как профессору точных наук заговорить об устройстве бабочек. Почему не принять Гоголя таким, какой он есть?